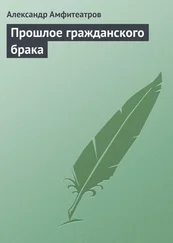Овладев освещенной софитами сценой, чума меняет порядок вещей. Она умертвляет общество, как организм зачумленного, и в многочисленные бреши, оставленные выпавшими социальными службами, врывается анархия в виде костров, на которых днем и ночью сжигаются трупы, и безумных жестов покуда живых, предающихся в ожидании гибели столь же яростным, сколь и бесполезным порокам. Едва ли не каждый предоставляет свободу прячущейся в нем необузданности, и кто раньше жаждал единственно сохранения общего для всех подчиненья моральным законам, теперь видит толк своих действий в коротких, но пышных оргиях надругательства, слагающих кодекс бесчинства.
Нераздельность жизни и смерти, энергичная трансмутация всех представлений, целенаправленная работа с призраками сознания. Таков настоящий театр, только таким должно быть искусство. Имея целью сформулировать задачи нового творчества и нового творческого бытия, Арто и прибегнул к сну о болезни, породившему захватывающую аналогию. Будто чума, чья отвлеченность может быть уподоблена лишь ее ненасытности, театр Арто есть эпидемическая реализация мстительного и победного бреда. Сей театр, рассадник несбыточных, но должных осуществиться, как все невозможное, грез, превосходит самые максималистские из доселе известных сновидений и оставляет за сто верст позади невинные шалости удовольствий, даруемых войной, преступлениями, дурманящими зельями и кровосмесительным любострастней. Механизм этого искусства антипсихологичен, и галлюцинирует не личность, а масса, тревоги которой ярче, значительней, исступленней тревог отдельного человека, не масса, а магма, вскипающая пузырями, — это образы из начала начал. Театр жестокости равен посвятительной практике и даже выше, совершенней и эффективней ее ритуалов. Темы его представлений всеобщие, истолкованные в соответствии с традициями космогонических преданий, религиозных таинств и магических манипуляций, его зеркало направлено в глубину, отражая и возвращая наружу реальность сверхмифов, пьющих знание о первоосновах, последних границах и мистериальном волховании. Заметим, ничуть не желая обмирщать пафос величественной программы Арто, что узнать, по-прежнему ли мифы безумствуют в темноте или заснули от затянувшегося к ним равнодушия, станет возможным только тогда, когда кому-нибудь в самом деле удастся достать их из-под земли, взглянуть им в глаза и вовлечь их нынешнее молчание и грозную сокрытость (так спит недоступный науке термоядерный синтез) в поток наблюдаемой жизни. А это равновелико эсхатологическому пересозданию последней, что произойдет либо не скоро, либо — ведь и такую вероятность нельзя полностью игнорировать — под влиянием еще не познанных обстоятельств. До той поры мифы немотствуют, никак внешне не раскрывая себя, и проверить их бытие никому не под силу. Отсюда шанс, не утруждаясь доказательствами (да и могут ли быть явлены рассудку и чувству те незримые феномены, что предстают исключительно медиумическим дарованиям посвященных, лишь их допускают до сношений с собой?), постулировать существование универсального дочеловеческого Ведения, Первичной Традиции, предшествующей всем религиям, преданиям и обрядам: здесь миссия одного из вдохновителей Арто — Рене Генона. Геноновская гадательная концепция, пестрящая произвольными положениями, ее автором выдается за супернауку об иерархии Сущего и прокламируется тоном, замаскированным под студеную объективность. Обманчивое бесстрастие этих речей, как бы непрерывно холодеющих до крайних градусов холода, застывая морозными узорами формул, ледяными росчерками аксиом и сталактитами смиреннейшего подчинения высшей истине, таит в себе страшную наклонность властвовать и возражений не терпит, точно устами писателя, в одном лице французского мистика и каирского шейха Абдель Вахида Йахья (спору нет, редкая в своей непреклонности и кэмповом экзотизме фигура), выговаривает себя сама профанически неизрекаемая Традиция. Как бы то ни было, только эти древние мифы и невидимые, ждущие воскресения ритуалы сохранили, согласно Арто, чудовищную поэзию, еще способную расшевелить летаргические толпы, как это делает чума, когда крик заключенного наконец разрушает стены Бедлама и доходит до «мертвецов, лежащих под горой трупов». Эти слова обрушиваются на читателя, покоренного их напором, но, перечитав текст во второй и в третий раз, удостоверяешься, что систему Арто гложет неизлечимый недуг. И после того, как ухо свыкается с роскошной риторикой, а глаз начинает с недоумением вылущивать в восхитительио-неподсудных, не нуждающихся ни в какой конкретизации пассажах исторические имена и названия, долженствующие поддержать этот полет, понимаешь, что за убийственный яд разлагает манифест и всю грандиозно-арочную, будто семицветье радуги над увлажненной природой, панораму Арто. Определим недуг как противоречие между звездными целями и ничтожеством средств и среды, выделенных для их достижения. Между самостоянием метафизики и заурядной прикладною историей, с именами и датами. Словно циклотрон решили построить в коммунальной квартире.
Читать дальше