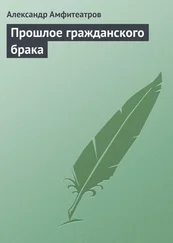Кровью наделены для меня только те художники, которые ни при каких ситуациях, прижизненных и посмертных, не имели ни малейшей возможности сподобиться когорте начальников, диктовать свою мощь, влиять на мнения и умы. Они не должны быть вовсе бездарными, иначе получилась бы нарочитая, вывернутая наизнанку эстетская крайность. Однако смысл их бытия не в писчебумажном поступке, он в убедительном образе неудачи, отверженности, глухоты-немоты, неумении докричаться до оценщиков и потомков, застолбив за собой толику исторической презентабельности. Лишь с чахоточными литературными разночинцами третьего, задвинутого во тьму непризнания ряда и забулдыжными передвижниками с затерянных полок плацкартных вагонов беды я на равных сегодня могу и хочу разговаривать. Их дурацкие участи, отколобродив, все еще длятся, хоть без ночлежной горячки и туберкулезного побродяжничества, что первостепенно, но не до такой степени, чтобы перешибить во мне усугубляющуюся солидарность с забытыми. Эти не будут приказывать, не будут надменно молчать с пирамид и стеречь нажитое, вошь на аркане в их дырявых карманах. Помимо практической несостоятельности они чувствуют и пределы своих скромных талантов, ощущая закономерность разбитого зеркала, распущенной пряжи. И если на что-то годятся они, справедливо отринутые, в целом мире ненужные, так это принести облегчение зрелищем своей полной никчемности, пропойного странничества, нищебродства, примером того, что было им в тысячу раз хуже, больнее. Загробного воздаянья за муки им опять-таки не обещано, все для них кончилось, не начавшись, и бывает ли светлее образчик, чем контур чужой безнадеги, сгубившей малоприметных сидельцев из одного с тобой цеха. Руки их, отвалив сгнившую крышку, разрывая среднерусскую влажную землю, тянутся из могилы наружу, подманивают прохожего: прохожий, остановись, и он останавливается, трогает обескровленные темные пальцы и, без преувеличения, прикасается к себе самому.
Кладбище из «Памятника славы», надгробие Арье Розенцвейга (1902–1936). Скульптурная головка египетской статики, так лепили кошек, ваятель добился портретного сходства. Чистая, как после поражения мыслей, лобная кость. В глазницах насечки, щербатые крапинки, оставленные беглянкой, которой облик, оккупировав зрачок, белок, желток, сетчатку, радужную оболочку, повиснув на ресницах и так далее, что толку продолжать, если затмился хрусталик (я не офтальмолог, не ловите на ошибках, слова в предложении подобраны по звучанию). Выпирающие, в точности мои, передние зубы. Хрупкий, опять привет братства, суховеем подпорченный подбородок с чертами характера, разбитого вдребезги, но не вдруг же, не вдруг, мог догадаться, что над черепом занесен молоток. Самоубивец меж войнами… Я не поленился разыскать в архиве повесть, доверенную девяноста семи дневниковым страницам, вот вкратце содержание ржавых чернил.
Шесть лет изучения правовой философии в университетах Берлина, Фрейбурга, Вены, и молодой человек, коему прочили взлет, чьи сдержанно-резковатые опусы отвечали нормам, канонам, ранжирам всего, что, клубясь, обесценило норму, ранжир и канон, дал овладеть собой духу времени, на этот раз в бело-голубом халате сионистского ха-Диббу-ка, с незамедлительным отбытием туда, где вновь горело пламя в очаге, кто-то же должен был следить за поленьями. Отец и мать всплеснули руками, узнав о решении младшего сына, но обрадовались сметливости мнимо недальновидного отпрыска, который дружески списался с дядюшкой, едким бонвиваном борозды и межи, подвизавшимся в Земельном фонде Палестины. Обычаи родства Шмуэль Залмансон ставил выше своего циничного шар-мерства, и хоть не вровень с искренне почитаемой им общественной пользой, но достаточно высоко, чтобы скрасить племяннику начало вечного лета, когда убогость заштатного поприща и потоки солнечных ливней заставили Арье приуныть, пошатнуться, да старик поддержал, непритворно на каждом шагу восхищаясь его прозорливостью, национальным чувством, быстрым ивритом, ладно б раввинистическим, тухлым, о нет, почти совсем живым, еще малюсенькая порция кислорода, этакий, знаешь ли, вентильный поворотец, и катышки огласовок превратятся в шипящие пузырьки, я сам не вытравил венский синтаксис и акцент.
Спустя полтора года, отданных совершенствованью в древнем наречии и в крючкотворном гибриде британского прецедента с оттоманским кисметом, Арье не без посредства Шмуэля получил место в адвокатской конторе, Тель-Авив, два квартала от моря, возле меня. Окрыленный напутствием, он принялся сочинять для газеты «Давар», напитывая суховатую фабулу тревожными вопрошаньями, ибо народное тело, писал Розенцвейг, тяжко и чернотрудно, через века распылений, возрождаемое ныне в первично неизуродованном своем естестве, в том лишь случае станет народным, если расовый обруч будет и милосердным обручем сплоченности; сможем ли мы оправдаться пред памятью сожранных малярийным болотом, коли умений наших достанет разве что на создание разобщенности, — узнавши рабство, видать, соскучились по собственным извратительным путам, и полюбуйтесь на расцветшее, вопреки библейским и талмудическим заградам, ростовщичество, на хищную арендную плату, на заросли иных пороков в теплицах Эрец-Исраэль, ни турки, ни англичане тут неподсудны.
Читать дальше