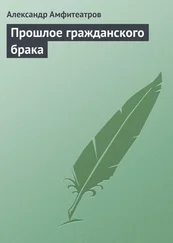Оккупация выдалась началом освобождения, эротическим хеппенингом, намекнувшим на какое-то будущее. На Праге сосредоточились взоры планеты, чешское бедствие стало товаром, но бензобаки вражеских танков не были заправлены обещанием грандиозного личного процветания, о котором мечталось Милану Кундере, ибо предприятие могло быть решено лишь непосредственным, персональным вторжением в международный литературный язык европейских столиц. А он жил вдали и вместо универсального языка вынужденно вчитывался в заштатную чешскую речь, малопонятную и во французских переводах. Этот унаследованный недуг долго сидел в нем, но с какого-то момента он уже не стеснялся о том говорить, как больной, победивший болезнь. В «Бессмертии» есть острая сценка: молодая чешка, обучавшаяся в Париже у Лакана, возвращается домой, находит свой маленький городок захваченным русской армией и устраивает для женщин полуконспиративный семинар психоанализа, где томящиеся особы раздеваются догола и слушают, не понимая ни слова, лекции о стадии зеркала. Парижский жаргон не ложится в славянскую речь, языки рассогласованы, и даже если бы Кундера все с себя снял, его бы заметила и оценила только советская комендатура.
Он не хотел раздеваться. Эмигрировал, выдержал стиль на огне и наконец вошел в европейское литературное тело, как выяснилось, мягкое, податливое. И освоил международный язык совершеннее тех, кому он был дан по праву рождения. Не исключено, что этим редчайшим даром награждаются не добродетель и праведная жизнь (что было бы давно осужденным пеллагианством), возможно, его обретают только верой, сумасшедшей верой в успех. Одержимый желанием быть универсальным европейским писателем, Кундера безукоризненно сдал все экзамены и даже избавился от преувеличенной точности произношения, свойственной иностранцам. Так крещеный еврей Роман из Берита-Бейрута постучался в двери Восточного Рима, и его, Сладкопевца, кондаки полторы тысячи лет поют по церквам. Европейские интеллектуальные бестселлеры Кундеры чудно облегчены по сравнению с источниками его вдохновения. Они умудренны, скептичны, разочарованны. Глубоко человечны, дабы читатель понял, что хоть история ушла с континента, но личные драмы остались. В меру ученые книги, европейские донельзя, до окраинной Тулы, до назойливого цитирования хрестоматийных имен, до нежелания после конца света погостить в Праге, до перехода на французскую речь. Он повторяет многочисленные клише расхожего разума и полагает, что пишет в традициях философской прозы, клянется Музилем и предусмотрительно, чтобы выбить оружие у завистников, иронизирует над своей привязанностью: «Нет романиста, который был бы мне дороже Роберта Музиля. Он умер однажды утром, когда поднимал гантели. Я и сам теперь, поднимая их, с тревогой слежу за биением сердца и страшусь смерти, поскольку умереть с гантелями в руках, как умер боготворимый мною писатель, было бы эпигонством столь невероятным, столь неистовым, столь фанатичным, что вмиг обеспечило бы мне смешное бессмертие». Эпигонство автору не грозит. Настоящий эпигон Музиля работал бы с безоглядностью своего кумира, не присматриваясь к интеллигентной толпе, рассчитывая на самоценные качества слова и мысли. Просто ему как эпигону не хватило бы ни таланта, ни мощи.
Кундере хватило всего для победы. Образцовый западный постмодернист, писатель умеренного, буржуазного международного языка, он заслужил свою славу, большую и малую конъюнктуру бессмертия за вклад в механически конструктивную прозу, уже несколько десятилетий производимую теми, кого раньше, в творческие эпохи, назвали бы имитаторами. Мы видим прекрасных авторов, столпов профес-
сорской культуры Эко, Павича, Джона Барта, видим тонкого пессимиста Зюскинда и целое племя британских артистичнейших стилизаторов, но виртуозность и обворожительный историцизм их сочинений маскируют гербарий, искусственные цветы, бабочек на булавках, подмену священного творчества изобретательным мастерством, когда домашнюю газовую горелку пытаются выдать за главенствующий над морем огонь маяка. Уж лучше монотонность и скука «нового романа», честно посвятившего себя мертвым изображениям мертвой природы.
Габор Мольнар рос в маленьком городке, стиснутом скопищем аграрных островков. На главной улице автобус остужал свой пыл перед делегацией взволнованных гусей. Облако производства стояло над заводиком, родственным выводку окружавших его мастерских, которых уклад питался гордостью мелких ремесел. Мягкая диктатура будапештского опекуна шахмат, словесности и скромных выгод полуавтономии в составе Общего Блока считала неприличием прежние экстремумы комиссарства, и частная торговля, проведя вечность с тех пор, когда за нее полагался расстрел, творила, на паях с кооперацией, дуумвират предложения, утолявшего непритязательность местного спроса. Воском и пением согревалась воскресная церковь. Скрипки оседлых цыган стонали в двух кабаках ниже уровня пола. Исправно действовал почтамт, отлично проявил себя кегельбан, не вызывали нареканий пекари и сапожники. Элегия парка, скроенная по лекалам габсбургской офицерской эстетики разбитого сердца (драматически юный поручик запечатал конверт, еще раз прошептал милое имя, коснулся сознанием образов матери, государя, полка и, не задувая свечи, будто шампанское поднес к губам холодный ствол револьвера), умножала свою меланхолию в колеблемом зеркале вод, и в то время как лебедь скользил наискось, к супротивно-плакучему ивняку, беличьи лапки искали в земле ими же схороненный орешек, а лист падал к подножию гипсовых изваяний, оберегавших лиру, псевдоантичный хитон и память о чем-то, о чем-то. Трехэтажное здание правящей партии насиловало смиренный ландшафт своей казенной эрекцией. Близ входа располагалась клумба с орнаментом, составлявшие лозунг алые, желтые, фиолетовые цветочные буквы должны были промывать глаза бодрым покоем, но на Габора почему-то лилась та же тоска, что и дома, где текло с потолка, разило капустой, томилась мать, изнывала сестра, куда отец возвращался с завода в таком унижении, точно его всю смену заворачивали в промасленную бумагу или держали на цепи, как медведя, и где мальчика, пока он не устроился на разноску газет, убеждали еще немного походить в тесной обуви.
Читать дальше