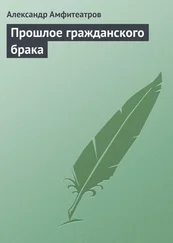Мой основной страх в те годы был спровоцирован ожиданьем того, что привычная, оттого и терпимая эмигрантская бедность сменится нищетой. От бедности она отличается не только устранением материальных опор, в результате чего худая конструкция рушится, но антропологической трансформацией, катастрофой, ибо нищету переживаешь не ты, бывший, хоть бедный, а самотождественный, — в нее ввергнуто твое новое, уродливо превращенное, гадко развоплощенное существо. С другой стороны, благодаря этому превращению продолжается жизнь, старое сознание не вынесло б перемены. Опасения подтверждались густотою дурных обстоятельств, накопленных, как семя после воздержания. Уже иссякало трехгрошовое пособие, начисленное под обломками два года привечавшей меня газетенки, уже отводил глаза чиновник на бирже труда, деликатный, вежливый бюрократ, который, чего-то смущаясь, стыдясь, избегал предлагать мне библейское, под солнцем плантаций, собирание апельсинов и сторожевой надзор из щелистой конуры за дважды горевшей складской развалюхой (этим занятием я бы не погнушался), уже я высчитывал мелочь на курево и трясся, приближаясь к дате квартирной оплаты, а все не мог найти стабильного дела, все носился с языком на плече. Туда закинешь обмылок компилятивного перевода, там подхалтуришь для русского радио, настрижешь в третьем месте из ворованных брошюр и книжонок номер эротико-астрологического альманаха, издания, так лихо взлетевшего ввысь, что интеллигентная машинистка из Гомеля пунцовела, набирая подслеповатый текстец про орально-генитальное пиршество в уборной парящего над Атлантикой самолета, — в общей сложности заработок не составлял и половины той, право же, филантропической суммы, что позволила б на день-два забыть о подстерегающем будущем. Не знаю, что делать, говорил я Вадиму, через месяц подберу последние крохи, придется искать собачью будку, сводить рацион к подножному корму, о дальнейшем не думаю. Да, кивал Россман, худо нам, худо. Минуту спустя он допил недопитое, взял — на манер кисточки из верблюжьего волоса — красный фломастер, нарисовал китайскую грамоту, и боязнь ушла из меня, как уходят камни из почек. Произошло это вмиг, я уже выразил ощущения. Сатори, инсайт? Слишком торжественно, не для наших будней сей праздник, нет ему в них соответствия. Мне вообще безразлично, из каких религиозных и классовых слоев языка заимствовать подходящее слово, мне важно удержать: я спокойно, не содрогаясь, смотрю на заплетающихся клошаров, и если мысленно надеваю на себя их судьбу, то фаталистически, без надрыва. Никто не застрахован от того, чтобы ходить в смердящем тряпье, волоча тележку и сумку, стоит ли опасаться, это уже буду не я, спасибо конфуцианским, даосским иероглифам Россмана, в течение полугода, пока не стерлась тушь, поучавшим меня со стены.
С тех дней деньги полюбили меня. Усердие, выдержка, бережливость — и копилка, когда ни встряхни, звенит певчески, полнозвучно — купить джинсы в одеждохранилище фирмы, сорочку, потеребив большим-указательным голландское полотно, выбрать в пряном, корицей присыпанном декадентском салончике, где кофе цедят из фаянсово-матовых, как личико уездной барышни, чашек, умолчу о ботинках, отдельная повесть, то же, раскроюсь, и пища: горячая, только что из духовки, разрезанная вдоль хрустящая булка, ледяной до испарины, масляно тающий масла брусочек, с негустым слоем красной икорки, полупрозрачный, с дижонской горчицей, лепесток буженины, без коего редкий мыслится полдник, летняя мякоть авокадо, киви, папайи, четырехдолларовые ром-бабы из кондитерской Сильвы Манор, близ которой я, недавний еще абстинент, галилейское покупаю вино и табак, наипаче не ограничиваясь в плодах наук, ремесел, искусств, как то: резной, нигерийского дерева носорог, золингенский кинжал, дальневосточная ширма, тисненые монографии о кораблестроении и паломничествах, альбомы для глаза, порочные фотокарточки позапрошлого века, варьирующие розовое млеко телес в помпезно-приторных интерьерах Третьей империи, чьи орденские ленты суть подвязки на ляжках, обмотавшись которыми висящий в гондоле воздушного шара Курбе пялится зраком в межножье подруги Уистлера, глинтвейн из глиняного фиала, мраморная пепельница-жаба, как много возможностей, Елисавет Петровна, о! — денег и сейчас не ахти, но ведь довольно, довольно, не жалуюсь.
Вадим писал поэтичные этюды об усталости и походке, мистифицировал, составлял каталоги инверсий, оксюморонов, метатез, парадоксов, слагающих символический лексикон иерусалимского города, сейчас пишет снова, в солоновато подсушенном стиле сомнения; некоторые идеи реализовать не успел, мне приглянулась особенно та, что о связи национальных литератур с набором гастрономических, питейных главным образом предпочтений, — зафиксирую, чтоб не пропала. Чайная компонента определяет структуру китайского текста. Когда у Конфуция спрашивали, что такое «жэнь», он советовал вскипятить воду. Жена Лао Шэ, утопившегося после того, как хунвейбины два часа издевались над ним, положила в погребальную урну три предмета, с которыми не расставался покойный: очки, авторучку и пакетик чая. Южноамериканское слово неотторжимо от крепкого кофе (а чай матэ?). Сердцебиение, но и латинская четкость рассудка, бегущего похмельной мути. Нет терроризма педантичней и строже, чем этот. Он до костей съеден грамматикой и поэзией. Даже автоматные очереди следуют классическому литературному синтаксису. Иное у чехов. Пльзеньское прочно, цинично, в «Швейке», этой «Илиаде» и «Эдде» чешского духа, истории сталкиваются, будто кружки, а хлопья пены падают на дубовые доски трактиров. Пиво развязывает, и словесный поток, не имеющий обязательств перед формой, устремляется в бесконечность; проживи автор хоть до ста двадцати, все равно не дописал бы роман. В тайниках же британской словесности — опиекурильня и оттоманка в холостяцкой квартире, на которой владелец прилег с книжкой романтика, визионерствующего о мореходе, злых лабиринтах азиатского города и желтолицем малайце, вестнике лихорадочных наваждений, что, отмеряя периоды действия препарата, овладевали повествователем на гулких ли лондонских стогнах сквозь слезы дрожащего мемуара об уличной девушке, навек обручившейся с юностью и отчаянием, в уединенном ли обиталище с греко-римской библиотекой, камином и креслом. Иногда я наведывался к Вадиму в его каморку в иерусалимском центре абсорбции — ливень заливал ее зимой, весной забредала крыса, приходилось перегораживаться, насыпать в углах яду, как он жил, как мы все жили. Отваривали картошку, жарили баклажаны, поливали оливковым маслом и соком лимона огурцы, помидоры, редьку, перец и лук, толстыми ломтями нарезан был серый хлеб, тонкими — колбаса, в стаканах деревенское вино, весело, вкусно. Посреди взбесившейся от зноя погоды он отбыл в Техас.
Читать дальше