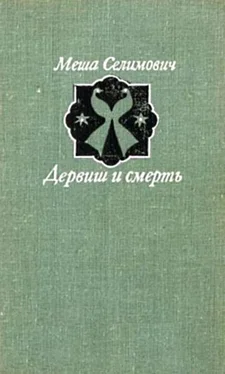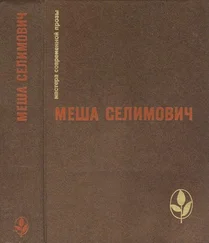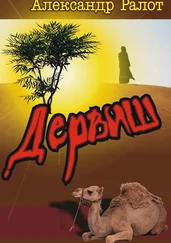Но я сделал это легко, быстро освобождаясь от внутреннего давления, а сомнения снова охватили меня, едва я вышел на улицу. Обвинил ли я сам себя и погубил? Оставил ли я доказательства против себя в неверных руках гонца? До этого я неразумно твердил: все сделаю сам. А как может человек все сделать сам?
Дважды направлялся я, чтоб забрать у него письмо, и опять возвращался, не обладая той твердой решимостью, чтоб выйти из игры, а в третий раз, когда страх заставил меня, я вошел во двор почтовой станции с твердым намерением со всем покончить, уничтожить бумаги, говорившие против меня. Однако гонца уже не было. Он вышел в чаршию, никто не знал, за чем.
Теперь мне оставалось только ждать. Я бродил по окрестным улицам, взволнованный, оробевший, злясь на себя, не зная, что делать: продолжать ли вот так глупо блуждать или спрятаться, настолько неуверенный в себе, что стал походить на перепуганного ребенка.
— Не следовало этого делать,— упрекал я себя, не зная точно, в чем я ошибся. Стоило ли вообще начинать или не надо было отправлять письмо? Не начинать означало вообще умыть руки, не отправлять письмо означало ничего не делать, примириться, а этого я не хотел. В чем же я тогда ошибся? Или я разволновался из-за случайности, упущенной в моих расчетах, а они-то, видимо, и оказываются решающими в жизни? Или вследствие неизбежной зависимости от многих людей, но я никому не мог верить.
И тогда, должно быть, абсолютно опустошенный, я почувствовал, что начинаю вяло успокаиваться и целиком полагаться на судьбу. Ничто больше не зависит от меня, и я ничего не могу изменить. Будет то, чему быть суждено. Но не по справедливости. Все равно что, но не по справедливости. О гонце я перестал думать, настолько он незначителен, как ему меня уничтожить? Да и не может человек думать обо всех гонцах на свете.
До полудня я снова стал искать его, не понимая, зачем мне это нужно; прошло столько времени, он мог уже сделать все, что хотел. Но не нашел, он отправился в свой далекий путь.
Если он показал письмо, все скоро кончится. Мне некуда бежать.
У меня не было сил ждать. Два часа неизвестности сморили меня. Чтоб избавиться от кошмара, я направился к муселимату. Стало легче, едва я принял это решение. Конец один, независимо от того, найдут ли меня или я отдамся сам в их руки. И в то же время все иначе, ибо я сам иду навстречу решению. Ко мне вернулось мужество, вернулось бодрое настроение, потому что я изменил центр тяжести, приняв все решение на себя. Мелким выглядело и походило на обман это обращение лицом к угрозе, но все заключалось в этом. Действуешь, не ждешь. Ты участник, а не жертва. Может быть, в этом заключается суть храбрости? Неужели нужно было потратить столько лет, чтоб я смог открыть столь важную тайну?
Я назвал себя караульному и попросил передать муселиму, чтобы он принял меня. Только пусть не говорит «какой-то дервиш», пусть запомнит имя и звание, это важно.
Если он примет меня, я многое смогу ему сказать. Попросить милости для друга, хаджи Синануддина. Объяснить, почему я просил полицейских отпустить его. Предупредить о волнении, что охватило чаршию. Высказать массу вещей, которые ни к чему не обязывают, но говорят о доброй воле.
Я не был спокоен, но знал, что это самое лучшее из всего, что я могу сделать: я не прячусь, не убегаю, сам прихожу, чтоб поговорить, с добрыми намерениями и чистой совестью.
Если он получил письмо, меня сразу пропустят, и все быстро выяснится. Но даже если это и случилось, все равно есть надежда. Письмо принадлежит Али-аге, я только написал его. И пришел, чтоб рассказать.
И пока я ожидал, размышляя о возможных вопросах, мне пришло в голову, что, помимо этого отвратительного ожидания и разговора, полного полуправды и лжи, мне придется совершить многое, что нельзя будет оправдать добрым делом. Может быть, я буду вынужден совершить нечто, чего устыдился бы в иной, пустой жизни, совершить во имя справедливости, которая важнее всех мелких грехов.
Однако еще можно остановиться, если это божья воля.
Господи, жаждуще шептал я про себя, глядя на серое небо над городом, обремененное снеговыми тучами, боже, хорошо ли то, что я творю? Если нет, поколебай мою твердость, ослабь мою волю, лиши меня уверенности. Дай мне знамение, оживи листву тополя дуновением ветерка, здесь не было бы никакого чуда в эту осеннюю пору. И я откажусь, каково бы ни было мое желание все исполнить.
Не дрогнули кроны тополей на берегу. Они стояли спокойно, вонзившись тонкими вершинами в облачное небо, молчаливые и холодные. Они напомнили мне о тополях родного края, над рекой, что шире и прекраснее этой, под небом, что просторнее и прекраснее этого. Случай был неподходящий, чтоб погружаться в воспоминания, они возникли, как молния, как вздох. И исчезли. А серый день остался, и тяжкие облака над головой, и какой-то мутный осадок в душе.
Читать дальше