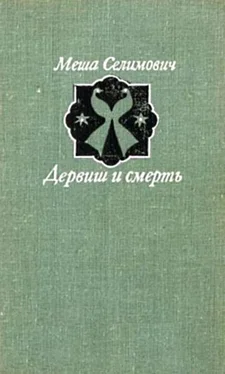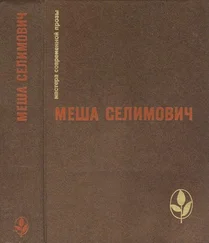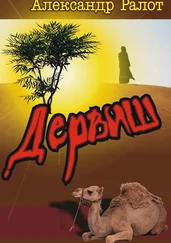Ради сына он испытывал меня, ради сына принял. И хитрость и доверие происходили от одного корня.
Отсутствие Хасана заставило нас сложить сказку о нем. Жил-был однажды царевич.
Но сам Хасан чаще говорил о своих неудачах без сожаления, со смехом. И в силу закона противодействия, как он сам однажды проницательно заметил, его неудачи не выглядели ни тяжелыми, ни серьезными. Даже неудачи благодаря чарам его светлой откровенности превращались в удачи, о которых он не хотел говорить и которые его не особенно заботили.
Позже я пытался отделить сказку от реальности, но, как бы хорошо я ни знал правду, мне с трудом удавалось освободиться от чар, которым мы нередко сами себя подчиняли, стремясь обрести своего героя.
Если судить по тому, что не было сказкой, казалось, в нем нет ничего необыкновенного. Пройдя в школе сквозь пламя религиозного фанатизма и еще в молодости познав критическую, верную природе философию Абу-ибн-Сины при помощи какого-то нищего философа-бунтаря, каких на Востоке водилось много и которого он часто вспоминал с любовью и насмешкой, он вошел в жизнь, обремененный грузом, который суждено носить большинству из нас: пример великих людей, которым хотелось следовать, стоял перед глазами, но он ничего не знал о маленьких людях, с которыми обычно сталкивает жизнь. Одни быстрее избавляются от этих неподходящих образцов, другие медленнее, третьи вовсе никогда. Хасан, веровавший в то, что нравственные достоинства повсюду найдут признание, приспосабливался плохо, будучи слишком чувствительным по характеру и по происхождению. Оказавшись в сверкающей столице империи с ее сложными связями и отношениями между людьми, неизбежно лишенными милосердия, внешне пристойными, приглаженно лицемерными, переплетенными между собой нитями паутины, словно попав к акулам в открытом море, лишенный жизненного опыта, благородный юноша оказался на подлинном шабаше ведьм. Со своим скромным багажом, при помощи которого он надеялся пробраться сквозь стамбульские заросли, с наивной верой в честность он походил на человека, который с голыми руками кидается на до зубов вооруженных пиратов. Сохранив всю свою незлобивую бодрость, благородство и приобретя знания, Хасан вступил в зверинец уверенным шагом невежды. Он не был глуп от природы и вскоре увидел, по каким угольям ступает. Выбор зависел от него: или принять все как есть и прозябать, или уйти. А он, незаурядный во всем, не приемля столичную жестокость, стал чаще вспоминать свою родину и сравнивать мирную жизнь глухой провинции с взволнованным морем. Над ним смеялись, презрительно отзываясь о заброшенном, отсталом вилайете.
— О чем вы говорите? — возражал он.— Менее чем в часе ходьбы отсюда есть уж такие задворки, какие трудно себе и представить. Здесь, у вас под носом, рядом с византийской роскошью и собранными со всех концов империи богатствами, как нищие, ютятся ваши собственные братья. А мы — ничьи, мы — всегда на меже, мы — всегда чья-то добыча. Что ж удивительного в том, что мы бедны? Столетиями мы ищем и едва узнаем друг друга, скоро мы вообще перестанем знать, кто мы такие, мы забываем уже о том, что чего-то вообще хотим, другие оказывают нам честь, забирая нас под свои знамена, поскольку у нас нет своих, покупают нас, когда мы нужны, и плюют нам в лицо, когда в нас пропадает потребность, самый злосчастный кусок земли во всем мире, самые несчастные люди на земле, мы теряем свое лицо, а принять чужое не можем, оторванные от родной почвы и не пустившие корней в другом месте, чуждые всем и каждому, и тем, кто нам близок по крови, и тем, кто не считает нас родными. Мы живем на перекрестке миров, на границе народов, под угрозой любого удара, всегда перед кем-то виноватые. Как о скалы, о нас разбиваются волны истории. Нам надоело насилие, и убожество мы превратили в достоинство, мы стали благородными из упрямства. Вы же бессовестны от переполняющей вас злобы. Кто же тогда отсталый?
Одни его возненавидели, другие стали презирать, третьи избегали, и он испытывал все большее одиночество и тоску по родине. Однажды он дал пощечину какому-то своему земляку, который рассказывал грязные анекдоты о боснийцах, и ушел, чувствуя горечь и стыд за своего земляка и за себя самого. И тогда на улице он услыхал разговор, дубровчанка и ее муж стояли возле лавки и говорили на его родном языке. Никогда прежде человеческий язык не казался ему более прекрасным, и никто не был ему ближе этой стройной женщины с благородными манерами и этого толстого дубровницкого купца.
Читать дальше