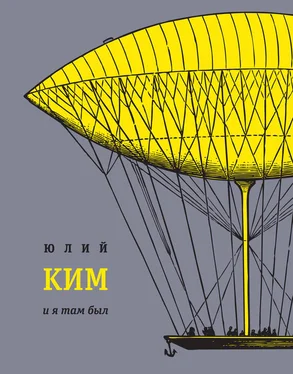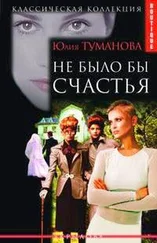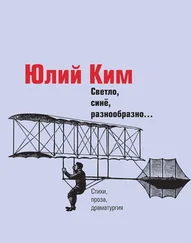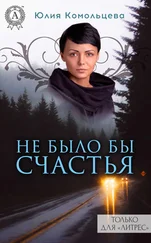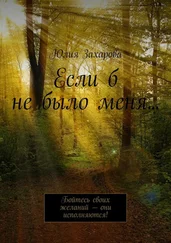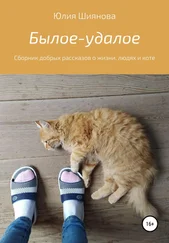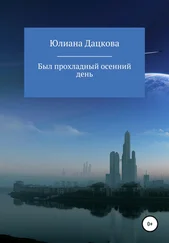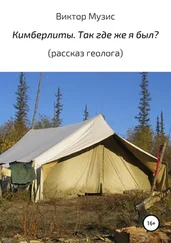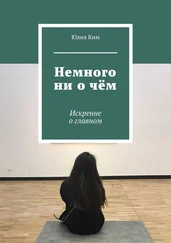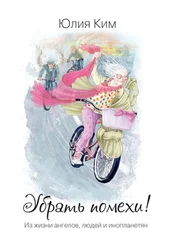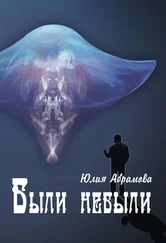Язык псалмов, пророчеств, притчей,
Язык мессий, язык заик!
В радищевском косноязычье
Ты захлебнулся, мой язык…
…Как знать, быть может, только в нем
Залог святой борьбы со злом.
Вот оно, главное занятие для мыслящего и пишущего человека! Подпольная живопись, туристская лирика – это все милое (если не подлое) дезертирство. «Мой друг рисует горы», – трогательно распевают обнявшиеся первокурсницы, а в ответ им яростный глуховатый голос:
Лиши меня краски, звука, слова,
Лиши любого волшебства!
Яви мне силы для иного
Святого: снятия с креста.
Затем я и явился в этот мир!
А горы пусть рисует мой друг!
Он явился в этот мир для борьбы со злом, для спасения души от крестных мук – такого рода декларации не только о решимости к проповеди, но и о готовности доказывать делом. Иначе у праведников и быть не может. А советская действительность постоянно эту готовность испытывала. И как ни омерзительна была сама мысль о тюрьме вольнолюбивой бродячей габаевской душе – путь его на советскую каторгу неумолимо определился уже году в 66-м, после процесса Синявского – Даниэля. В 67-м его взяли на Пушкинской площади во время очередной правозащитной демонстрации. Продержав четыре месяца, Илью отпустили, благо все-таки был он не участником, а очевидцем события, хотя и сочувствующим.
В 68-м они с Якиром и Кимом подписали несколько гневных протестов насчет возрождения сталинизма – все эти тексты сочинял Илья. И только археологическая экспедиция, утащившая Габая вон из Москвы, помешала ему выйти на Красную площадь вместе с великолепной семеркой под плакатом «Руки прочь от Чехословакии!».
Естественно, осенью, когда демонстрантов судили, он продежурил все трое суток и так и назвал свой гневный очерк – «У закрытых дверей открытого суда».
В 69-м было на Москву большое нашествие крымских татар. Их представители Илью знали, многие останавливались у него в его первой в жизни (и последней) квартире, он, как мог, помогал – Лубянка терпеть более не стала, в мае Илью взяли. Судили его в Ташкенте с видным деятелем – впоследствии лидером – крымско-татарского движения Мустафой Джемилевым. Затем – три года уголовного лагеря под Кемеровом. В 72-м освободился, но Лубянка все не отставала от него, а когда пошло дело Якира – Красина, то особенно стала доставать Илью, в надежде добавить к делу еще одного раскаявшегося – осенью жизнь для Ильи стала невыносимой. И он кинулся навстречу смерти с одиннадцатого этажа.
Ни над кем ни до ни после не плакал Михайлов так безутешно, так навзрыд, в голос, как над Габаем. И что странно: совсем незадолго до этого в стихах о Пушкинском лицее он уже описал это отчаяние – еще ни разу его не пережив:
И спасти захочешь друга,
Да не выдумаешь – как…
И ведь он Илье еще успел прочесть эти строки!
* * *
Однажды Михайлов с Ильей оказались в компании, где пел Галич. Был он в ударе. Правда, сколько раз его ни слушал Михайлов, Галич всегда пел вдохновенно: все-таки артист. Да и песни такие.
Наш поезд уходит в Освенцим…
Мы похоронены где-то под Нарвой…
Илья слушал потупясь. Эти песни сильно действовали на него. Но не только сами по себе. Он потом сказал Михайлову:
– Жаль… Жаль!
– Что тебе жаль?
– Что такие песни – и поет такой человек.
Не совмещалось. Не совпадала эта окопно-лагерная подлинность с этой мхатовской подчеркнутой дикцией, с этим аристократически слабым «р» (или, напротив, пародийно нажатым), с благополучным сытым лицом. Вот уж особенно где несовпадение! Ну-ка, взгляните на портреты Максимова, Солженицына, Высоцкого, Астафьева – лагерь, война, послевоенная городская подворотня – несмываемые печати, удостоверения личности, подтверждающие подлинность пафоса и право на правду.
А тут?
Смесь грузинского князя с петербургским адвокатом, сочный рот жизнелюба, респектабельные усы, гладкие ухоженные щеки, баритон только что не оперный. Высокий рост, неторопливый жест, свободное изящество позы и походки – любимец общества, баловень судьбы.
(Уж не от него ли самого слышал Михайлов: будто вышли они с Вертинским в фойе – ресторана ли, театра, – и гардеробщик, получив от Галича рубль, небрежно обмахнул его плечи щеткой, и только; а приняв от Вертинского гривенник, обмахнул и плечи, и грудь, и спину, и разве что не туфли – Галич удивился и спросил у него:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу