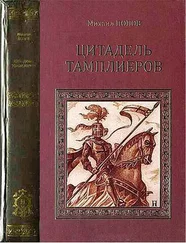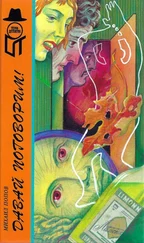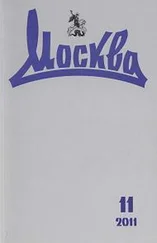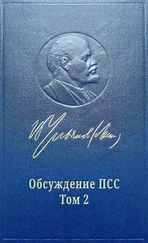Лариса дала понять шефу, что она все поняла.
— Хорошо, Михаил Михайлович, я попытаюсь, сделать все возможное.
Трудней всего, как ни странно, пришлось с самим Карапетом. Он хотел пострадать.
— Да, я дал ему по морде, да, на рабочем месте, да, кулаком! Вот этим кулаком. Пускай судят, я хочу, чтобы на меня надели наручники. Я хочу в тюрьму. Все приличные русские люди сидели в тюрьме.
Тойво с Милованом иронически переглядывались, Галка и Тамила Ивановна причитали, восхищенно и озабочено, разве что не по–армянски.
Как тени промелькнули Голубев и Воробьев. Один мгновенно пожал предплечье Карапету, другой запястье — держись, борец!
Лариса вела допрос свидетелей.
— Где вы были в тот самый момент?
— Я уже ушел. — Спокойно ответил Прокопенко.
— Ну, да, я забыла, у тебя как всегда все в порядке. Человека посадят, а у тебя все в порядке.
— Я хочу, чтобы меня посадили! — Коротко вскинулся Карапет, уговаривающие руки Галки и Тамилы Ивановны усаживали его обратно, поили кофе, гладили по неровной голове.
Прокопенко встал и вышел. Лариса повернулась к Волчку.
— А ты?
— Я?
— Ты?
Волчок видел все, видел пухлый, отчаянный кулак Карапета, видел его соприкосновение с челюстью Пызина. Пожалуй, от такого удара и челюсть может треснуть. Но сказать правду, не то что на суде, но даже здесь, перед лицом возбужденного коллектива, было нереально.
— Что ты молчишь?
— Я ничего не видел.
— Как подсмотреть какую–нибудь гадость, ты всегда тут как тут, а когда нужно спасти человека, ты глазенки в пол, понятно!
Молодой человек страдал невыносимо, тем более, что обвинение Ларисы было построено таким образом, что било сразу по двум болевым точкам в уязвимой совести молодого консультанта. Она могла намекать и на его невольное свидетельство ее давнего грехопадения, и на антипатриотический прокол недавних дней. Скорее, второе. Конечно, второе. Хотел блеснуть свободомыслием, а просто выпростал предательский волчий хвост.
— Но я ничего не видел!
— Да ладно, слепец, только ты не Гомер, ты Паниковский.
Молодой человек наклонил голову, когда идут прямые грубые оскорбления, становится немного легче, чем в те моменты, когда изящно пытают совесть.
— Я ничего не видел.
— Ну и что? А просто выйти и сказать — была пощечина, граждане судьи!
Карапет опять рванулся, как Прометей со скалы, но оковы женских рук вернули его обратно.
— Это лжесвидетельство, я не хочу, чтобы меня защищали такими методами. Не соглашайтесь Шура. Я отсижу свои три, или даже девять лет, отсижу, но я буду знать, что наказал подлеца.
— По хорошему, тебе бы надо было бы дать по морде шефу, а ты побоялся. — Сказал Тойво негромко и в трубку.
— Что? — Удивились некоторые.
— Что ты сказал? — Повернулся к нему Карапет.
— Как вам не стыдно Тойво, а еще интеллигентный такой человек. — Бросились на длинного Галка и Тамила Ивановна.
— Что он сказал?! — Повернулся к ним Карапет.
— Да ничего, он не сказал. — Успокаивала его машинистка.
— Что ты сказал?
Тойво достал трубку изо рта и отрицательно помахал ею в воздухе.
— Это так, мысли вообще. И в сторону.
— Ты куда? — Спросила Лариса у Волчка.
— Я ничего не видел.
— Не важно, постой.
— Я хочу в туалет.
Лариса опять прищурилась.
— Ах, приспичило? Ну, иди, иди.
Молодой человек вышел в коридор на ватных ногах. Он был бы счастлив услужить Ларисе, он бы многое был готов отдать ради этого, но суд!!!
Лариса смотрела ему вслед презрительно, она ничуть не считала, что потерпела поражение в этой атаке. Парня додавим. Отлично было видно, как он вздрагивает, когда ему под нежный розовый ноготь втыкают иголку обвинения в нелюбви к отечеству. Сказать по правде, в это время в Ларисе в самой происходили сложные и противоречивые психологические процессы.
Она то с особой силой ощущала себя дочерью русского офицера, и в ней кипело обжигающее «за державу обидно», вместе с не умирающей детской надеждой, что Чапаев доплывет; то вдруг обнаруживала, что ей хочется вызволением нелепого Карапета либерально, почти по–диссидентски щелкнуть по носу тупоумную, мягкотелую нынешнюю партийную диктатуру. Она была одновременно и за родимую родину, и за всеобщую свободу. И от невозможности остановиться в какой–то одной точке неосознанно и непрерывно злилась. Карапет был не такой уж светоч и борец, но его бесчеловечно было бросить без подмоги. Но Карапет, вместе с тем, был бывший приспособленец, поэтому, противно и нелепо было бы защищать его своей собственной грудью. Вот за Николая Гумилева она бестрепетно бы подставила под пули свою любимую водолазку. И если бы во имя большой государственной пользы надо было растоптать того прежнего, ничтожного, лизоблюдного Карапета, она бы позволила его растоптать.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу