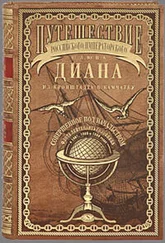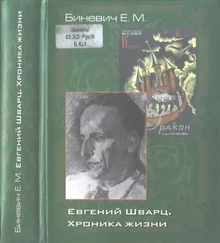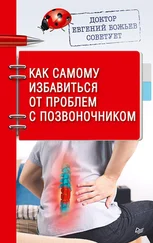— А зачем? — удивился Егорка. — Мне и здесь не дует.
— В Сибири-матушке, знать, не был… А в Сибири простор, — мечтательно сказал старик. — А в Камчатской землице — горы огнедышащие, а когда они изливают огненные каменные реки и посыпают наши головы грешные пеплом, то земля ходуном ходит…
— Байки не рассказывай и башку не морочь, — сердито перебил старика Егорка. — Больно врать-то горазд.
Старик не обиделся на Егоркины слова: молод и вспыльчив Егорка, наступит время — и смолчит, где надо смолчать, себя пересилит. Он только сказал:
— Нет времени для баек, Егорий… Только и осталось правду жизни рассказывать… В миру меня, Егорий, звали Иваном сыном Козыревским.
— Так ты че, монах?
— В семьсот четырнадцатом пострижен был. Подсобери соломки еще, каменья в боки впились…
Егорка наскреб с пола слежавшейся мокрой соломы, затолкал под ребристую спину старика.
— Ублажаешь ты меня сегодня, Егорий. Доброе у тебя сердце. Посиди рядом, мне легче с тобой…
— Да сидеть нам не один год вместе… Худо станет, кликни… А сейчас я спать хочу.
— Да проснись же ты, не ори, всех до смерти перепугал.
Козыревского тряс за плечи молодой колодник Егорка.
— Егорий… Душно. — Козыревский потер худую грудь, несколько раз вздохнул глубоко; однако уставшее сердце теснилось, временами оно пропадало, и тогда левая половина груди будто отмирала, холодея; движения расстриги стали просяще резкими, в глазах страх.
— Егорий, — с хриплостью встревоженно произнес Козыревский. — Не дожить мне до решения Сената…
— Раскаркался, — придирчиво заворчал Егорий, помогая Козыревскому лечь на спину, — кому ты нужон, хрен ты старый… Говорю тебе, кому ты нужон, — повторил Егорий, накрывая ему ноги тряпьем… — Се-на-а-т…
— Никшни! — слабеющим голосом возразил Козыревский.
— А че сразу рот затыкать… Никшни, — передразнил он ворчливо. — Сенат твои бумаги в темный угол засовал, свечой не нашаришь… А то сидит на них какой-нибудь старый… — Егорка ругнулся и хмыкнул, мол, знамо дело, от людишек понаслыхивал: приказному если можно деньгой аль натурой гребануть, так он бумагу тебе нужную у черта скрадет, а перед тобой козырнет, и никуда ты не денешься, карман вытрусишь.
— Ох, Егорий, Егорша, — осуждающе вздохнул Козыревский. — Я выкарабкаюсь… Вот сердце… проваливается, будто не мое… Ранее и не знал, где оно, а как затрепыхалось, чужое, оказывается… предает…
Козыревский заговорил, стихая и защищаясь, и Егорка, поняв, что расстриге шибко худо, ответил примирительно-успокаивающе:
— Ну что ты все — бумаги, бумаги. Да привезут их, велик груз. Спи лучше. Утро вечера мудренее.
Козыревский вздохнул.
— И то верно, Егорка. Пора на боковую. Ох, камушки — постель страдальная. — Он поворочался. — День завтра какой?
— Не знаю, — ответил Егорка.
— А месяц?
— Зимний… Холодно. Спи, — ответил, осерчав, Егорка. — Холодина собачья.
Утром стражники торопливо затянули тряпьем остывшее тело Козыревского и, шаркая по каменным плитам, гулкими коридорами унесли его к последнему тюремному пристанищу.
А вскоре Сенат получил из Сибири первую бумагу, что оный Козыревский умер декабря второго дня в год 1734.
Егорка после смерти расстриги стал молчалив, исполнителен, и стражники прониклись к нему доверием.
Он сумел удавить одного стражника и в его одежде скрылся. Куда? Сидельцы тюремные говаривали, что во сне Егорка бормотал «в Камчатку, в Камчатку»…
Наверно, в Камчатку.
1
Стеллера пытали на дыбе. Он терял сознание, и его отволакивали по скользкому от крови земляному полу в затхлую одиночку, где держали особо опасных. Стеллер, на удивление заплечных дел мастерам, не помирал. «Живчик попался», — говорили они, озлобясь. Тщедушный, по их понятиям, человечек им противился зря. Они готовились доказать свое превосходство над «живчиком», однако его вернули в мирскую жизнь, к жене. «Оправдался», — говорили они сожалеючи.
Жена, сухонькая, с заостренным носом и большими печальными глазами, едва его отходила. В промерзшем Иркутске, на окраине, они снимали темную комнатенку в избе овдовевшего казака, смурного и тихого.
— Ванька, загребут тебя по ихнему воровскому делу… Гони прочь, — советовали соседи.
— Не собаки, чай… Господь разберется, — вздыхал казак. — Грешно злобствовать…
— Свя-ятой, — смеялись над ним соседи. — Как все-то обернется…
— Грешно злобствовать, — повторял упрямо казак.
Читать дальше