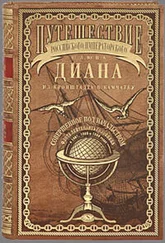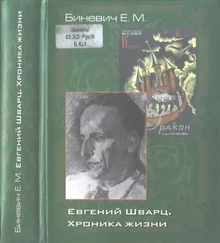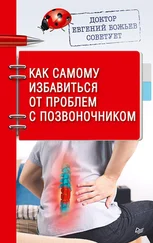А тем временем Анциферов говорил Козыревскому:
— Больно глазаст Петька Худяк, кабы не сглазил. Убрать надоть с глаз долой.
Иван насупился:
— Все зыркает, выглядывает… У-у-у, змей. Найди на него управу, дядь Данила.
— Я не приказчик, — возразил Данила, наблюдая, как ответит Иван, и тот, к его удовольствию, воскликнул:
— Так будешь!
— Тогда и уймем Худяка, если трепыхнется. А пока угнать: от него только и жди беды из-за угла. На Большую реку. Там нет-нет да стрелы посвистывают.
— Миронов упрется: виданное ли дело, чтобы Худяк по Камчатке разгуливал. Да на его лбу написано: сдохнуть в Верхнем остроге.
Данила с интересом посмотрел на Ивана и, не возражая, уступил:
— В Верхнем так в Верхнем… Коль написано — не перевернешь. Всякому своя судьба. Пусть будет под рукой.
В настойчивости Ивана он углядел Петрово упрямство.
Настал день, когда Миронов-Липин в шубе из лисьего меха показался из дверей. Данила подал знак рукой. Казаки сдернули шапки и громко крикнули здравие. Миронов-Липин будто ждал. «Вернусь — не забуду!» — крикнул он, радуясь в душе, что его наконец-то приняли, что его любят. Он затмит и оттеснит Атласово имя. Мороз перехватил дыхание.
Худяк увидел, как переглянулись Анциферов с Козыревским, услышал в крике Шибанова и Березина издевку. Он отошел за спины казаков, которые плотно обступили нарты, и побрел в свою избу. Он чувствовал спиной, что ему вслед сейчас смотрит Иван Козыревский, и он не ошибся: Иван и впрямь, посмеиваясь, проследил его взглядом и остался доволен больной походкой Худяка. «Не протянет долго», — подумал он.
Миронов-Липин и охранные казаки (во главе с Анциферовым) под визг собак и крики каюров «Ках-ках» покинули острог.
Худяк бежал ночью. Он выкрал нарту у Семена Ломаева. Собаки узнали его. Радостные, они рванули разом. Семен в исподнем — к окошку, да что разглядишь в зимней теми! Надернул чижи, накинул тулуп — и с порога услышал в тихой звездной ночи дальний скрип, который тут же растворился, будто унесся в поднебесье, черное и до жути холодное.
Худяк гнал нарту путем опасным, но более коротким. Он не будет петлять вдоль реки Камчатки, как Миронов-Липин. Он не будет разжигать костер. Он доверится собакам — и они вывезут его. Ему надо за ночь обойти шумный и сытый отряд. Нарту встряхивало на кочках. Он судорожно хватался за баран, налегал на остол, сдерживая сильных, откормленных собак.
Вскоре Худяк почувствовал, как начал слабеть. Закружилась голова. Дыхание перехватывало, удушье сдавливало голову. Перед глазами то возникали, то, покачиваясь, отплывали в разные стороны красные круги, и ночь, знойно-холодная, окрашивалась тусклыми размытыми огнями. Ему неожиданно привиделось, что летит он по большому городу, широкие улицы которого безлюдны, и впереди виднеется белый храм, и он спешит к паперти, потому что там его моего, и он боится, чтобы никто его не занял. Нарта вдруг остановилась посередине улицы, и оказалось, что вся улица огорожена высоким дощатым темно-серым забором. И заборы задвигались, приближаясь к нему, и он ощутил, что они вот-вот зажмут и задавят его как муху. Свет впереди заставил его крикнуть на собак, и они, повинуясь ему, натянули алыки, но сколько ни скребли лапами, так и не смогли сдвинуть нарту. Тогда он стал помогать собакам, подтолкнул нарту. Она сорвалась с места, и он, не удержавшись, упал. «Куда же вы, собачки!» — крикнул он, и этот крик вышел на удивление слабым, беспомощным. Задыхаясь, он пополз к ярко-белому свету, который излучал храм. Руки отказывались повиноваться. Тогда он пополз, помогая себе локтями. Ему удалось преодолеть небольшое расстояние, и он подбадривал себя, что свет божьего храма вернет ему воздух, который украли у него заборы. «Где же собачки? — вдруг подумалось ему. — Они там… там… у паперти… просят подаяние… И Волотька Атласов там…» И будто в подтверждение он услышал знакомый, чуть насмешливый густой голос Атласова:
— Поспешай, мой верный Худяк, щи давно простыли. Степанида ругань развела.
Он вновь попытался опереться на руки. В голове зазвенели колокольчики — тинь-дзинь-тилидзинь, — и свет, к которому он стремился, сузился, отступая. «Постой! — что есть мочи закричал Худяк. — Волотька-а-а!» Свет затухал, и заборы зашатались, наваливаясь на него. «Тинь-дзинь-тилидзинь» — последний раз пропели колокольчики.
Когда упряжка вернулась к хозяину, он замерз. Завыли собаки, и плакал головной пес. Они легли рядом и, положив головы на лапы, смотрели, как шевелит ветер длинные седые волосы и наметает на лицо Худяка сугроб. Потом перегрызли постромки, и их поглотило знойно-холодное безмолвие.
Читать дальше