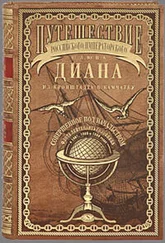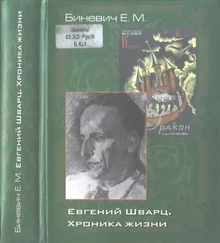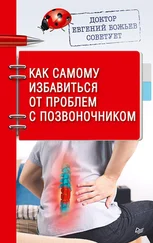Знали в Верхнем остроге: где Данила, там и Козыревский. В самые хитро запрятанные острожки посылали их приказчики: в глухих горах, на берегах рек, шумливых и таинственных, за тундрами коварно-топкими казаки отыскивали ительменов, писали с них ясак, выспрашивали, бывал ли кто здесь раньше. Нет, русские первые объявились в камчадальских землях.
Новин приказчик к Даниле строжился, и хотя голоса не повышал, но для поддержания значимости своей персоны не забывал иной раз отечески-благодушно напомнить: смотри, Данила, я к тебе всей душой, хотя ведомо, что Атласов на твоей совести тоже, и у мальца Козыревского рыльце в пуху. Но Волотька — бог с ним! — зарвался, амбарушки поднабил мягкой рухлядью (часть соболей так запрятал, что найти неможно), голосом людишек морил; я же… И персона его твердела в мрачнеющей улыбке, ясно напоминавшей, если Данила к приказчику не душой, а спиной окажется, то не ждать ему слова прощения…
Против всякого обычая приказчик отбил у Гришки Шибанова бабу. Та баба была уже крещеная и могла считаться женкой, поскольку архимандрит Мартиниан согласие на венчание дал. И вот приказчик забрал силой эту бабу, когда Гришка Шибанов с небольшим отрядом ходил в Нижнекамчатский острог с новым наказом вернуть Волотьку Атласова в казенку Верхнего острога. Но Ярыгин с ним даже разговаривать не стал.
Шибанов — а кто стерпит измывательство над домом — остервенился — и к архимандриту.
— Отец Мартиниан, — сказал он в гневе, — у меня из-под носа уводят бабу. Скажи Петьке Чирикову, пущай возвернет.
— Ах ты, дитя божие, — со вздохом отвечал Мартиниан, — кто знал, что душа у нового приказчика в чревоточинах, как тело прокаженного. Ты скажи, не брюхатую ли забрал-то хоть? Нет… Тогда легче приказчику нашему грех перенести… Если б забрюхатевшую сподобился сильничать, то душа его гореть в вечном аду будет.
— Пущай бабу возвернет, — упрямился Шибанов, понимая и страшась того понимания, что сейчас он бессилен что-либо сделать против приказчика; даже если он сумеет ворваться к нему в покои, приказчиковы слуги, лизоблюды и прихвостни, вышвырнут его.
— Смирись, — тихо и настойчиво внушал Мартиниан, — в острогах девок много, бери любую, с боем можешь брать. Твой грех — мой грех, а я перед господом богом чист, мне все простится.
— Мне чужих не надобно, пущай мою отпустит, — не скрывая угрозы, воспротивился словам архимандрита Шибанов.
— Поди да забери! — вскричал тогда Мартиниан. — Я устал тебя наставлять.
Шибанов в злобе проглотил подкативший удушающий комок.
— Ну ладно, отец Мартиниан… Атласова мы свалили… Петька Чириков против него жидок.
Архимандрит перекрестился, будто отгораживаясь крестом от грозных слов казака.
Архимандрит втайне признавался себе, что не понимает действий Петра Чирикова. Скажи, господи, зачем ему, властителю Камчатки, силком брать чужую бабу и владеть ею как женой, когда дома законная все глаза проглядела, глядючи встречь солнцу. Шибанова от себя отринул, а теперь он злобу затаит, и, взвейся внове недовольство, он первый поднимет на Чирикова руку. Мартиниан, осторожничая, намеком, попытался приказчика предупредить, мол, не следует злобить людей, ибо у всех не остыло еще на губах имя Атласова. Но Чириков снисходительно возразил: Атласово дело ему не указ, глупую шею и топор рубит.
Данила, наблюдая за Чириковым, с ожесточившейся настойчивостью втолковывал юному Козыревскому: «Запоминай! Шибанова обидел, унизил своей шкурностью и власть применил беззаконно. Шибанова приметь, сгодится».
Козыревский, приглядевшись к Чирикову, понял: Атласов драчлив, самодур, но в грабежи не пускался, а Чириков подленький и жалкий (подленький увеличивает свою подлость трусостью), поэтому его действия доходят порой до изуверства над казаками, подчиненными ему полностью. А если учесть, что среди них и больные и престарелые и семьею повязанные, то разгуляться удали приказчика есть где: простор, круши направо и налево. Зачем Чирикову морские острова и Апонское государство, когда летучий год отпущен на сбор ясака в государеву казну и выбивание сверхъясака для собственного кошту.
Люди мягкотелые часто становятся жестокими. Видя, что их презирают за мягкотелость, они только в крике находят опору и силу свою, а если такие люди облечены еще и властью, то единственное, на что они способны, — тирания. К таким принадлежал Чириков. В последнее время он все чаще и чаще обрывал даже десятников, и казаки зашептались: «Все приказчики одинаковы. Этот тоже житья не дает». Разговоры до Чирикова доходили (Мармон усердствовал); он мрачнел, надолго запирался в приказной избе и, закусив до крови нижнюю губу, поименно подсчитывал тех, с кем ему надо разделаться и как. Представив муки обезображенного казацкого тела, он торжествующе улыбался. Он чаще всего представлял, как истязает Данилу Анциферова, и исступленно шептал: «Кричи! На всю вселенную пусть разнесется твой поганый крик. Ты, мерзавец смердящий!» Но когда перед ним возникала недовольная толпа казаков, он остывал и вон спешил из приказной избы к бабе, которую отнял у Шибанова и которая согревала его своей покорностью. Ей он мог говорить все. Ему не терпелось покинуть опостылевшую Камчадальскую землю. Государева казна собрана. Свои мехи тоже не пусты. Пора, пора в дорогу, да Якутск пришлет смену не раньше осени.
Читать дальше