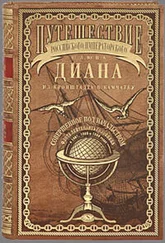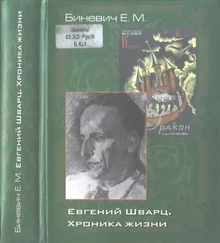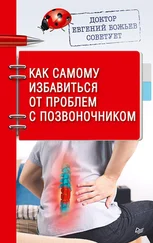— Ого, — кричали казаки, — да нам теперича сам черт брат.
Атласов отвел Луку в сторону.
— Степка где? — спросил он, предчувствуя неладное.
Лука помялся.
— Вишь, дело какое, — проговорил он. — Отшельничать Анкудинов надумал с Имилькой своей. Один, говорит, в тайге жить хочу. А сгину, знать богу виднее; Бог, говорит, послал мне жизнь в образе Имильки, на нее и молиться стану… Помучился я с ним, отговаривал, страшил судом, дыбой, а он все твердит: полжизни, мол, за перевалом оставил, а что жизнь сейчас при нем, так то от бога… Я и принял грех на душу… Бери, говорю, свою Имильку и тихо исчезни, но чтоб ни один глаз не видел и знать не знал. А как сумеешь — думай… Но заметят, не осерчай, пристрелю в назидание другим.
Лука замолчал, вздыхая.
— И как я за ним ни следил, — продолжал он далее, — можно сказать, за полу кухлянки держал, а он как сквозь землю провалился, даже следов на снегу не оставил… Может, оно и к лучшему. Что он там будет в тайге — отшельничать или как по-другому поведет, бог с ним…
— А люди? — спросил Атласов. — Они-то как?
Лука пожал плечами.
— Молчат, что промеж собой говорят, не слыхал, но Анкудинова не осуждают. Да задрали его волки, вот и весь сказ…
— Волки так волки, — после некоторого раздумья согласился Атласов. — Забудем о нем. Не жилец он.
— Русский мужик покладистый, и с медведем уживется.
Атласов сердито засопел.
— А поймаю если Анкудинова? Что с ним сделаю? В кандалы закую, на цепь посажу… На плаху голову его положу… жаль. Хотел его с тобой послать в Кецаево логово, придется Енисейского. Чего скривился? Терпеть его не терпи, а он верткий… Идти надо замиряться. Они знают, нас теперь много. Должны замириться, Лука… Людям передых нужен…
Лука смотрел на изможденное лицо атамана и видел только большие черные глаза. Они притягивали, выпытывали, казалось, проникали в душу.
«От них не скроешься», — подумал Лука и вспомнил, что именно так горели глаза атамана, когда он выспрашивал его, Луку, о Камчатке. Он содрогнулся: ему почудилось нечто бесовское во взгляде Атласова. Лука согласно кивнул головой и пошел искать Енисейского.
Лагерь казачий был обжит настолько, что казался древним становищем. У ободранных юрт тлели костры, вокруг которых сидели казаки и несколько юкагиров (остатки от шестидесяти человек). Они с присвистом втягивали кипяток и лениво курили. Юкагиров можно было отличить от казаков лишь по одежде: коричневые кухлянки и малахаи соседствовали с подносившимися тулупами и островерхими шапками.
Енисейский оживленно говорил о чем-то с юкагиром Еремкой Тугулановым. Они стояли у нартового вала, и Еремка показывал рукой в сторону корякского острожка.
Увидев Луку, Енисейский и Еремка замолчали и вопросительно посмотрели на него, причем Енисейский недовольно сморщился, всем видом давая понять, что Лука перебил их на самом интересном месте. Лука про себя ругнулся, однако спросил миролюбиво:
— Высматриваете, где острог Кецайкин?
Еремка, улыбнувшись, закивал головой.
— Там, там. — И он показал в сторону невысоких гор, которые, по всему видно, обрывались в Пенжинское море.!
— Версты три, — определил Лука. — А что, Иван, подстрелит нас Кецай али нет?
— С какой ноги встанет, — с мрачной шутливостью ответил Енисейский. И спросил вроде невзначай: — Красивая девка у Анкудинова?
— Красивая, — ответил Лука и только спустя мгновение вздрогнул, посмотрел на Енисейского, который пытался скрыть улыбку, и засмеялся, и вместе с ним Енисейский. И долго они смеялись. И Еремка остался доволен, смех сближает людей, а такие, как Лука и Енисейский, не должны враждовать.
Только сейчас признался себе до конца Лука, что мог он все-таки силой удержать Анкудинова с его отважной спутницей, да грех на душу взял, казаков далеко не отпустил, те постреляли в воздух, взбередили вечную тишину и успокоились, а юкагирам вообще запретил с места трогаться: они бы сыскали и за сотню верст. Думал: у него, Луки, ни кола, ни двора — подыхать легко, но опять-таки жалко; а Имилька и Степан молоды, детей наживут, внуки вырастут — в их окружении спокойнее с земными делами прощаться.
На следующее утро казацкое становище проснулось на редкость шумно. То ли от прибавившегося народа, то ли от значительности шага Морозки и Енисейского, но все чего-то ждали, а оттого становились нетерпеливыми и говорливыми.
Но вот, наконец, из юрты вышли, надевая шапки и запахивая тулупы, посланники и вслед за ними Атласов. Атаман был в приподнятом настроении, и это настроение передалось остальным.
Читать дальше