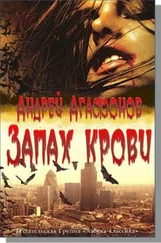Доживи и выживи, пропитайся этим, промаслись!
* * *
Но как же, как же — пятна оставлять на документе!.. Нельзя-с, протокол…
Есть еще другие «исследователи» — те, что надеются снискать авторитет не среди коллег (сухарей, синих чулков), а среди толпы. Они обращаются к читателю — и обращаются с ним, как с полным мудаком, призванным только рот открывать от их балаганной сноровки. Основоположник этого стиля «литературной смази» — Набоков — учился в том же Тенишевском коммерческом училище, что и Мандельштам. Вот и затравка для очередной бойкой брехни: танцуем от биографии, замешиваем на скандале, дешевой мистике и комариной, золотушной иронии… Все в ход: бабушка поэта, знавшая по–русски единственное слово «Покушали?», драки на лестнице, комичные дуэли, нелепая внешность, цифирь… Интеллектуализму бы еще подсыпать… Вот–де, в 1889‑м родилась Ахматова, в 90‑м — Пастернак, в 91‑м — Мандельштам, в 92‑м — Цветаева, в 93‑м — Маяковский… Ведь это же что–нибудь значит?! И готова концепция.
При кажущейся противоположности официозной филологии — те же яйца, только в профиль. Опять никому дела нет до самого предмета разговора. Опять главная забота — соблюдение правил игры, а Мандельштам тут случайно, мог бы быть другой кто–нибудь. Одни олухи канонизируют поэта, другие непременно обгадят: гармония!
Я вроде бы взялся писать о Мандельштаме, а не о его исследователях…
* * *
« Дошло до того, что в ремесле словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост: «И до самой кости ранено все ущелье криком сокола» — вот что мне надо… Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух».
Я знаю, у кого Мандельштам украл свой воздух; но было бы лучше для меня, если б я этого не знал. Если бы дрожь узнавания собственныхощущений не пробегала по мне при чтении фраз, подобных вышеприведенной…
Конечно, полотна Босха: «там щавель, там вымя птичье, хвои павлинья кутерьма, — ротозейство и величье и скорлупчатая тьма. Тычут шпагами шишиги, в треуголках носачи, на углях читают книги с самоваром палачи…» Или это: «и маршируют повзвоздно полки птиц голенастых по желтой равнине». Или это: «Мы прошли разряды насекомых с наливными рюмочками | глаз». А вот две строчки, которыми он выдал себя с головой: «Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас — чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?» Но ведь, чтобы понять и полюбить Босха («нет истины, где нет любви» — Пушкин), чтобы проникнуться им, осознать частью себя, надо быть — даже стать! — глубоко несчастным человеком… Разорванным… Гниющим заживо… Ведь то, что они изображали — один красками, другой словами, — это распад, разложение, необоримый Ужас (Мандельштам — поэт Ужаса par exellence), непрекращаемый слизисто–глазасто–зубастый кошмар, — кудаже ты, исследователь?! Хоть раз ты сказал о себе с омерзением, но и с восторгом:
И, сознанье свое заговаривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем!
Огромная серая цикада, ночная царица заброшенных погостов, разящая известью и аммиаком — вот истинная Муза Мандельштама! Вдохновительница… Богиня… Неужели этот чудовищный поэт — тот же, что жеманничал когда–то, делал губки бантиком:
«Я блуждал в игрушечной чаще и открыл лазоревый грот. Неужели я настоящий, и действительно смерть придет?» А в сборнике стихотворений 1928 года первые же строчки: «Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит… “
Чтослучилось? Когда смерть, которая, якобы, когда–то там «придет», поселилась в нем и уже не оставляла до последней минуты? Дьявольщина, тяготение ко злу — отмечали и ранние, «каменные» стихи Мандельштама, столь любезные филологам (и еще бы! Очень удобные стихи, правильные, все, как Гумилев учил; если бы в них еще отсутствовал напрочь талант — идеальным полигоном были бы для литературоведческих стрельбищ), но ужаса перед разлетающейся на куски, на фрагменты действительностью, перед слепыми вариациями, слепленьями этих кусков, упоения этим ужасом — в «Камне» не было. Осторожно — в «Tristia»:
Тонкий воздух кожи. Синие прожилки.
Белый снег. Зеленая парча.
Всех кладут на кипарисные носилки,
Сонных, теплых вынимают из плаща…
А потом были стихотворения конца двадцатых… И страшные воронежские стихи… Я думаю, то, что случилось с Мандельштамом после «Камня» — не его тайна. Не потому ли он так легко, истерично легко менял вероисповедания…
Читать дальше