Окольным путём я попробовал узнать у Алана Белла, что он про это думает.
«Лично я, — сказал он, — перед важными соревнованиями всегда воздерживаюсь, но скорее по эмоциональным причинам, а не физическим: ведь если с кем–то переспал, не думать об этом не можешь. Нужно точно знать свою цель. Нужен аскетизм. Спортсмен посвящает тело своему спорту. И плоть надо укротить. Конечно, Сэм за это».
В конце концов всё разрешилось, потому что Джеки — так её звали — решила, что я её избегаю — так оно и было, — и сама стала избегать меня. Честно говоря, я расстроился, но приближался финал, всё время уходило на тренировки, и удавалось о ней не думать. Только после финала она вдруг подбежала, поздравила меня и даже поцеловала. В девчонках это есть — прощать они умеют.
— Поздравляем, Айк! Ты спланировал бег именно так?
— Нет, не так.
Попробуй пробеги так по плану. Какой мощный рывок сделал Бэрк за полкруга до финиша! Сделал меня, как пешехода. Я уже сник, думал — всё. И тут, бог знает откуда, голос Сэма: «Не поддавайся, он блефует!» Сил уже не оставалось, но я стал погонять своё тело, как лошадь. В груди вспыхнула боль, и вдруг вижу: последний поворот, а он впереди всего на ярд, вот мы уже идём вровень, он тяжело дышит, хватает воздух; я уже бегу один, передо мной финишная ленточка, я её разрываю… только бы не упасть, только бы не упасть… Победа!
Как я мог такое планировать? Просто он застал меня врасплох…
Рим, если так можно сказать, поставил нас на место. На нас смотрели, как на варваров, расположившихся лагерем у ворот. Очередная шайка посягателей, с той лишь разницей, что свои копья мы собирались метать в поле.
Многих спортсменов в Олимпийской деревне это отношение задело — они ведь такие легкоранимые. Спортсмен убеждён, что мир вращается вокруг него; он должен быть эгоцентриком, если стремится к успеху, и равнодушие причиняет ему сильную боль. Пожалуй, в Мельбурне я думал иначе, там я рвался к победе и верил, что могу быть первым. Сейчас я могу позволить себе эту роскошь — быть объективным, ведь здесь я всего лишь турист.
Неудивительно, что Рим нас презирает. Я ещё не сталкивался с такой красотой, естественной и исторической, с таким подавляющим господством прошлого. Забеги, заплывы, велосипедные заезды — здесь всё это кажется каким–то малозначащим. Просто удивительно, зачем Олимпиаду вообще решили проводить в Риме, хотя ответ, разумеется, ясен.
Ко всему прочему выбрали август, когда под нестерпимо жарким солнцем всё выглядит ослепительно прекрасным — белый мрамор стадиона на фоне тёмно–зелёных гор. Но Олимпийская деревня похожа на бетонную пустыню. Один велосипедист скончался. Эдакое жертвоприношение. Может, именно этого хотели эти ужасные старики, когда остановили свой выбор на Риме в августе? Может, это была их месть молодым? «Если бы старость могла…»
Во время церемонии открытия все мы стояли на этом славном стадионе, каждая сборная в своей форме, словно на военном параде, а престарелый оратор изливал на нас всякую чепуху — юность мира, любительский спорт, олимпийские идеалы и тому подобная белиберда, — будто генерал перед войском, которое он посылает в бой, а сам сейчас преспокойно вернётся на базу.
Всё же нельзя оставаться беспристрастным — в воздухе носится дух Олимпиады, и убить его не может даже Рим. Возбуждение, высокие надежды, напряжение — всё это ощутимо в Олимпийской деревне.
Я живу в одной комнате с Айком Лоу и Томом Берджессом, а это значит, что у нас всё время Сэм, который столько задирается и философствует, что нет сил терпеть; Том и Айк слишком напряжены — Том такой всегда, Айку уж очень хочется победить. Впрочем, почему нет? Ясно, что каждый стремится к победе, а разговоры об участии — чистой воды болтовня. Разве я не жаждал победы четыре года назад?
Айку ничего не нужно, кроме этой медали, хотя она ничего не символизирует, ни к чему не ведёт. Однажды, когда мы оба отдыхали в постели после полудня, я его спросил: «Айк, тебе нравится заниматься бегом?» Он до этого бесконечно говорил о времени на каждом круге, о том, как перестроить бег на милю к 1500 метрам, о других бегунах и их времени на каждом круге и т. д. Он ответил: «Почему ты спрашиваешь? Конечно, нравится. А тебе?»
Я жалел, что задал ему этот вопрос, — он заставил Айка призадуматься, а ему это было ни к чему. Он сказал: «Всё зависит от забега. Когда всё идёт как по маслу, в тебе словно что–то щёлкает, появляется ощущение силы, тогда ты счастлив. Но бег через «не могу», через болевой барьер — какая тут радость…» Тогда я спросил: «А что такое болевой барьер?» Надо было, конечно, задать такой вопрос Сэму, а не этому бедняге, который как попугай повторяет то, что ему говорят. Айк ответил: «Он возникает, когда боль так нестерпима, что думаешь, будто уже ничего не сделать, — это и есть барьер, и ты силком заставляешь себя бежать вперёд, преодолеваешь его». Я сказал: «Другими словами, воображаемый барьер». И он ответил: «Ну, ясное дело, он только у тебя в голове».
Читать дальше
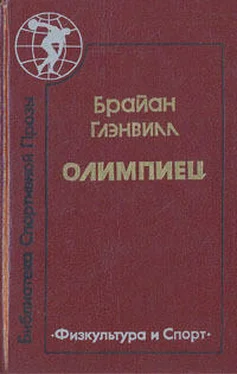




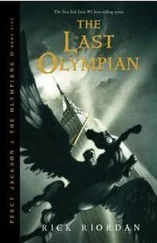




![Артур Осколков - Олимпиец [СИ]](/books/438816/artur-oskolkov-olimpiec-si-thumb.webp)

