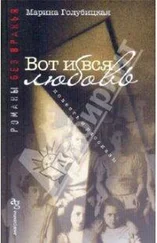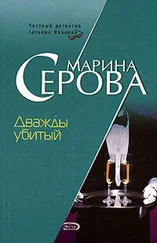Марина Голубицкая - Два писателя, или Ключи от чердака
Здесь есть возможность читать онлайн «Марина Голубицкая - Два писателя, или Ключи от чердака» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Два писателя, или Ключи от чердака
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Два писателя, или Ключи от чердака: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Два писателя, или Ключи от чердака»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Два писателя, или Ключи от чердака — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Два писателя, или Ключи от чердака», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Чмутов, нагнав меня, декламирует, чуть подвывая:
— Только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит … Что, Иринушка, пусто–то как, а? Гениальная Ахматова, гениальная…
— Господин Чмутов! — кричит с лестницы Розенблюм. Сейчас он кажется гномом из ТЮЗа, рост не важен, важны животик и борода. — Тут в кабинете у главного гриб вырос на потолке! Это ведь по вашей части?
Я оставляю ровесников наедине, иду вперед, куда–то пробираюсь и внезапно оказываюсь на сцене. Здесь, как массовка, уже столпились все наши. Я замечаю ожесточенное лицо Майорова в обрамлении моей шляпы, поворачиваюсь вслед его взору и вижу в центре сцены огромный крест с венцом из колючей проволоки. В зале трое баптистов, женщина и ее дети–подростки, мы прервали их песнопения.
— Деятели культуры из Свердловска, — представляет нас Нетребко.
Женщина, светло улыбаясь, кивает. Подоспевший Розенблюм громко обсуждает с режиссером из Питера покрытие сцены, Чмутов, кривляясь, выворачивает слово покрытие, его не слушают, Джемма Васильевна расспрашивает про численность секты, расписание служб и порядок аренды помещения. Мальчик поднялся к нам на сцену и охотно отвечает, девочка жмется к матери, разглядывая дочь Розенблюма. Я чувствую кожей, как напрягся Майоров.
— Крест сами делали? — спрашивает он мальчика. — И венок из проволоки? А гвозди в ладони Христа ты бы вбил?!
— Андрей, — вмешиваюсь я, — отдавай мою шляпу!
Я хорошо помню злые майоровские подачи.
— Вот тебе что для счастья нужно? — спросил он меня давным–давно.
А я тогда так хотела, чтоб кто–то спросил! И стала перечислять:
— Москву, подружек, шефа с задачками…
— Да как же ты, жена поэта, молчишь о его стихах?! Я специально об этом заговорил! Зло должно быть сытым, накормленным.
Мы торопимся на солнце, на воздух. Сзади захлебывается Алла Пояркова:
— Это так трудно — первый раз поднять руку на крест. А пойти на исповедь, к причастию… Девочки, я сейчас читаю Ветхий завет, там жестокость, все эти завоевания. Я жду с нетерпением, когда мудрость начнется… Ирина! У вас все детки крещеные?
35
Алла выбегает с фуршета чуть не плача:
— Что случилось с Игорем?! Он был такой хороший…
— А что с ним случилось? — втайне радуюсь, что конфузиться не мне одной.
— Да они с Андреем совсем стыд потеряли, — Марина, смеясь, смотрит на Майорова.
— Да, — гордится Майоров, — мы распоясались. Он думает, у Петровой клитор пять сантиметров, а я считаю, все десять…
Я теряюсь:
— И вы оба знаете, сколько?
— Ну, что ты… — снисходит Майоров. — Это же баба из выставкома, у нее яйца, как у коня маршала Жукова! Бронзовые…
В растерянности оглядываюсь на Марину. Она улыбается:
— Он почти не закусывал, сейчас же пост. Я уж и сама на него ругаюсь.
Интересный вопрос — границы целомудрия. Почему Алла не злится на Майорова? Почему я прощаю Чмутова?
— Что ж ты делаешь с Аллой Поярковой?! Разве можно разрушать ее мир?
— Да ведь мне–то все можно. Я писатель.
— Да–да–да, у меня твоя книжка в сумочке. Фото вместо закладок. Посмотри–ка, что ты тут видишь? — я вынимаю фото, это домашняя заготовка.
— Тебя вижу с Леней. Ну, стол, тарелки… Что еще я должен здесь видеть?! — он не любит быть отгадчиком чужих загадок.
Вынимаю второе фото: мы за тем же столом, рядом хозяйка — серьезная рыжая женщина. Говорят, преподавала ему немецкий.
— А–а–а, женушка моя первая. Ну–ка, ну–ка, дай посмотрю… Представь, она газеты читала, как Ленин. Очки нацепит и на полях пометки делает. Скоро докторскую защитит.
— Я думала, ты узнаешь тарелки.
— Я с этих тарелок не ел. А грязные тарелки она вилками перекладывала, чтоб дно не запачкать, — он смеется. — Что морщишься? Тоже так делаешь?
— Делаю, когда нет горячей воды. На даче. А что ж ты сплетничаешь, как баба?
— А я, Ирина, может, и есть баба. Мы ж не знаем, кто мы есть, пока не умрем.
В перерыве он громко ругал спектакль, все от него отвернулись, я подошла:
— Ну, что? Горе от ума?
Он вдруг успокоился, посмотрел усталыми глазами:
— Я выпил пятьсот граммов водки. Скажи, что здесь может нравиться? Почему это называется театром? По–моему, это цирк.
Я принялась объяснять, что я‑то больше люблю цирк, чем не случившийся театр: шест у папы на лбу, мальчик лезет, а располневшая мама в боа и бикини не сводит с мальчика глаз…
Вот и все. За окошком туман и тьма. Лучше и не гадать, во сколько вернемся. До часу ночи наш автобус развозил по домам местных артистов, теперь мы едем среди спящего леса. В салоне горит желтый свет, неяркий, какой–то старомодный. Неутомимый Розенблюм горланит песни, ему вторят Нетребко и тот, весь в черном, из Питера. Бог мой, уже два часа ночи! Автобус мерно покачивает, я прикрываю глаза и итожу свидание. Один комплимент, ставший уже привычным: «Этот свитер к твоим глазам идет». Один насмешливый возглас, когда я выбежала на сцену с розой: «Браво, Иринушка, браво, бис!» А подлость с карнизом считать за знак внимания?.. С меня вмиг слетает усталость. Проверить бы, сердится ли Лариса. Я поворачиваюсь к ней, встав коленями на сиденье, и извещаю, что ее предсказания сбываются, я что–то впечатала в свой компьютер, занялась творчеством . Лариса отвечает мирно и мерно . Я стесняюсь писательницу Леру и жду, что она подключится, мои речи предназначены для нее. Лера подключается, говорит остроумно и точно, мы начинаем с ее рассказов и будущей книжки, быстро скатываемся на анекдоты про Эльвиру, я увлекаюсь, шляпа съезжает мне на глаза — и я въезжаю в ночной город на коленях, спиной вперед, радуясь новому сближению.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Два писателя, или Ключи от чердака»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Два писателя, или Ключи от чердака» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Два писателя, или Ключи от чердака» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.