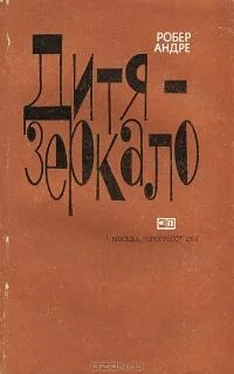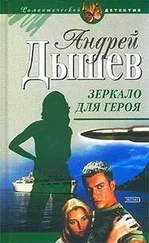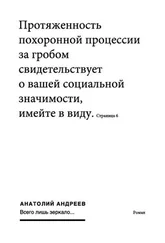А он продолжал, пытаясь меня убедить, насколько преступно поведение матери, но чем дольше он мне это объяснял, тем меньше я верил в его правоту. Проблемы были слишком сложны для моего понимания, мне не с чем было все это сравнить, все казалось мне нереальным, и постигшее его несчастье не оправдывало в моих глазах того, что ему так хотелось оправдать, — его грубости, которая чуть не привела к убийству. Приходило ли мне когда-нибудь в голову убить Реми? И даже Лепретра? И не дает ли нам Евангелие примера обращения с женщиной, которая была грешницей? Странная мешанина была у меня в голове.
Не сумев придумать ничего лучшего, я сделал вид, что черчу на столе какие-то знаки, в подражание Христу, который, когда книжники задают ему вопросы, чертит на песке, но отец не понял намека. Он, без всякого, впрочем, раздражения, спросил, слушаю ли я его. Я отвечал утвердительно, но мыслей своих ему не открыл — я думал о том, что его слова не проникают в меня, а вьются вокруг, подобно назойливым мухам, что он на сей раз ошибся в расчетах, что от его признаний мне душу пронзает печаль, граничащая с отчаяньем, и что пора бы ему это заметить, но он так и не понял меня, так же как книжники и фарисеи не поняли поступков Христа. Он был слеп, и вам даже трудно предположить, как далеко он зашел в своей слепоте.
В делах подобного рода бывают подозрения и бывают доказательства. Доказательства получить нелегко, а если доказательств нет… Таковы аргументы, которые я, к собственному своему удивлению, вдруг принялся довольно неуклюже ему излагать, торопливо перебирая в памяти вереницу сцен и ссор, свидетелем коих мне доводилось быть, в которых главную роль играли ревность и слухи и результатом которых оказывались все те же подозрения и угрозы и не выявлялись никакие реальные факты, а только ведь с ними и можно считаться, даже если исповедовать философию госпожи Пелажи. Было бы, конечно, лучше, если бы я воздержался от этих рассуждений. Я заговорил его языком, а он только этого и ждал. Ибо реальные факты у него были.
Я догадался об этом, когда увидел, как он перебирает бумаги, которые он вытащил из кармана и которые не были письмами. Со злобной гримасой, в которой, как это ни странно, сквозила покорность, он разложил их на столе, поверх моих невидимых знаков.
— Прочти — ты все здесь увидишь. Как? Почему? Что я должен прочесть?
Я различал отдельные буквы, но близкое к тошноте отвращение мешало мне осознать, что же они означают, словно я внезапно разучился читать.
— Я просил навести справки, — пробормотал он, краснея, — это отчет одного сыскного агентства, контора вполне солидная, сотрудничает с нашей фирмой.
Мне вспомнился случайно услышанный разговор о найме людей на работу, о том, что за новыми служащими, принятыми условно, ведется тайное наблюдение с целью контроля за их нравственностью, и в зависимости от результатов слежки решается вопрос об окончательном зачислении работника в штат. Так вот каковы были его реальные факты! Полицейский донос. Он предлагал мне прочесть полицейский донос на маму.
Я сделал вид, что читаю, но оказалось, что я в самом деле разучился читать, и я почти сразу же вернул ему листки без всякого комментария. Я ощущал теперь в сердце страшный холод, подобный той вечной мерзлоте, какой скована на Крайнем Севере почва независимо от времени года, и я твердо знал, что, несмотря на заветы Христа, я этих реальных фактов никогда ему не прощу. Они остались в моей душе навсегда, до самой его смерти.
Он сложил листки, сунул их обратно в карман, подозвал официанта, чтобы расплатиться по счету. Сознавая, очевидно, всю тщетность дальнейших попыток, он больше не сказал мне ни слова. Отцу явно со мной не везло.
Мне нравилось подробно распространяться о счастливых мгновениях своей жизни, и временами я уснащал их дополнительными прикрасами, которые в изобилии поставлялись мне моими горькими сожалениями.
Ж.-Ж. Руссо. «Прогулки одинокого мечтателя». Прогулка четвертая.
Этим крушением отмечен конец моего детства, им завершился процесс разрушения его первоначальных картин; для меня теперь не существовало больше богов.
Я буду и потом побаиваться отца, буду временами восхищаться его социальным успехом и некоторыми его интеллектуальными качествами, но никогда уже не смогу его уважать, не смогу испытывать к нему почтительных чувств, а мне этого так хотелось! Такова одна из великих печалей всей моей жизни.
Но что удивляет меня самого и представляется мне почти столь же невероятным, как и природа его реальных фактов, — это то, что я никогда не смогу от него полностью отдалиться, хотя со стороны порою казалось, что это произошло. Никогда в последующие годы я не относился к нему с безразличием, никогда не притворялся, что у меня нет отца, никогда не считал чужим человека, который меня породил. Ведь озлобленность — это все же, пожалуй, не ненависть, а здесь идет речь как раз об озлобленности, к которой, быть может, примешивалась и какая-то доля сообщничества или соучастия, но соучастия какого порядка?..
Читать дальше