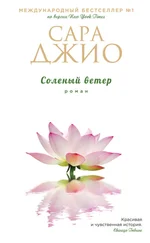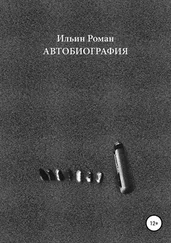Выпили за процветание нового порта на Тихом океане. Лица раскраснелись. Разговор, поначалу несколько растрепанный, нервный, сбился на петербургскую жизнь. Вспомнили общих знакомых, родных. Гроссевич полез в багажные сумки: «Совсем запамятовал. Тебе, Лева, почта. В Иркутске передали…» Писем было штук десять, в розовых и голубых конвертах, одни тоненькие, в листочек, другие пухлые, как разбитая колода карт, и на всех легкий женский почерк, судя по характеру письма, принадлежащий разным рукам.
Изрядно захмелевший Колесов подмигнул Гроссевичу, тонко засмеялся:
— Господа! Предлагаю премило закончить наш ужин декламацией сих трепетных посланий. — Он покачнулся и, дурачась, понюхал пачку. — Судя по букету, это должно быть презанятно.
Офицеры, радуясь выходке приятеля, весело зашумели. Кто-то уронил свечу, ее тут же зажгли, и подсвечник подвинули поближе Колесову.
— Господа! Разве так можно! Лева, ты пошутил? — Гроссевич, краснея, встал из-за стола.
Лева, потрясая письмами, смеялся.
— Господа, зачем же так? Это неприлично, — бормотал растерянно Гроссевич.
— Хотим читать! Хотим читать! — громко кричали за столам.
— Что за вздор ты несешь, Петя, — отмахнулся от Гроссевича Колесов. — Будем читать. Нам скучно, правда, господа?
— А ты нам не велишь веселиться. Здесь, мой друг, не Петербург и даже не Иркутск. Тут у каждого свой манер…
— Колесов! Если вы посмеете в присутствии… — Гроссевич, задохнувшись, рванул воротник сюртука. В наступившей тишине послышался звук посыпавшихся на пол пуговиц.
Колесов, криво усмехаясь, надорвал первый пакет:
— Прекратите это безобразие, Колесов! — вдруг сказал Анциферов. — А вам должно быть стыдно, господа! Черт знает что! Или для вас здесь не существует ни морали, ни законов чести?
Слова Анциферова произвели впечатление. Шум, пьяные возгласы разом оборвались. Кто-то молча потянулся за шампанским, кто-то, виновато пряча глаза, торопливо раскуривал трубку, стараясь спрятаться в облаке дыма.
Колесов, почувствовав, что дело приняло нежелательный для него оборот, раздраженно передернув плечами, встал и, сдернув рогожку, мрачно уставился в окно. Синяя густая тишина прятала город. Изредка блеснет огонь гакабортного фонаря с брандвахтенного судна, выйдет на берег волна покрупнее и с унылым шорохом сдернет гальку в море. Со стороны порта глухо стучали топоры, будто бабы вальковали белье, звенели пилы, доносился невнятный говор. По случаю ожидавшегося прибытия из Либавы клипера «Наездник» гарнизонные солдаты спешно заканчивали ремонтом помятый штормом причал. Вместе с ночной сыростью, порвавшейся в легкие, Колесов почувствовал, как все ого существо наполняется глухой, бесконечной тоской. «Черт меня дернул забраться в эту дыру. Ах! Ах! Как по романтично! Как это замечательно! Вы непременно должны туда ехать»! — со злобой вспомнил он восклицания какой-то девицы не то с Фонтанки, не то с Васильевского, у которой он провел вечер накануне своего отбытия в Южно-Уссурийский край.
Он многого ожидал на новом месте службы. В Южно-Уссурийском крае ранее никому не ведомые офицеры из разночинной молодежи делали головокружительную карьеру. О них знал государь-император, высшие сановники из Государственного совета устраивали приемы и балы в честь этих загорелых офицеров, на полах сюртуков приносящих неведомый, пугающий запах дальних земель и морей. Невельской, Казакевич, Посьет… О них говорили, о них писали. При одном их имени петербургские барышни приходили в полуобморочное состояние и подолгу о чем-то задумчиво молчали. С них рисовали портреты, их изображения оправляли в (медальоны, их имена произносили с тем же благоговением, что и имена бравых героев только что окончившейся войны с горцами. Как тут можно было удержаться… Зачем? Ушло безвозвратно, сгорело без следа прошлое…
Петербург. Конец шестидесятых годов. Тогда многие из его сверстников в безбрежном море государства Российского увидели надвигающуюся волну демократических (Преобразований. В лихорадочные, бессонные ночи им еще слышались выстрелы на Сенатской площади, а рука уже тянулась к своему пистолету, и в сердце, как выстрелы, отзывались слова последней клятвы: «Народ и Расправа!» Колесов оказался среди них. Все его существо противилось тому бесцветному, тошному будущему, которое уготовила ему, сыну священника, жизнь. А на петербургских улицах гремели роскошные кареты, уносившие в снежный мрак прекрасных женщин. В дорогих ресторанах, как в сказочных теремах, вершилось неведомое ему таинство. Золотая, великосветская молодежь, с которой еще вчера он проводил студенческие пирушки, сегодня вершила государственные дела, не узнавая его при встрече. Все это — мимо! Не для него! Никогда! Нет! Жгучая зависть, смертельная обида, чувство обреченности и в то же время неуемное стремление не покориться своей жалкой судьбе привели его в противоправительственную, террористическую организацию «Народная расправа». Не горе и нищета народа плакали в его сердце, не ненавистью народной кричала его душа. Колесов вошел в эту организацию растиньяком из города Клязьмы. Он проиграл. Организация была разгромлена. Многие ее члены брошены в тюрьмы. Колесов отделался легким испугом да недолгими и не слишком мучительными угрызениями совести о выданных им охранке товарищах группы. Этим он заслужил не только прощание: ему были оказаны некоторые знаки внимания, которыми он воспользовался для того, чтобы попасть в таинственный и обещавший так много Южно-Уссурийский край.
Читать дальше