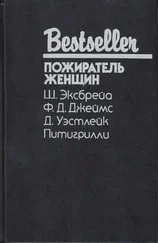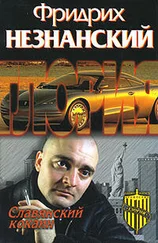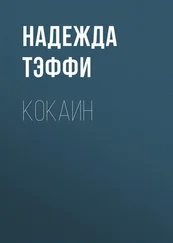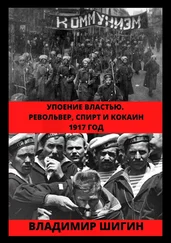ми никто не хочет иметь ничего общего: кто систематически молчит и старается показать вид, что он поглощен какими-то философскими изысканиями, наверное не что иное, как шут, у которого в голове торичеллиева пустота. Когда мне кто-нибудь говорит, что ему надоело жить, что свет опротивел ему, что счастье заключается в смерти – я поверю ему только тогда, когда он пустит себе пулю в лоб и его похоронят. Но до тех пор, пока на живот его не ляжет слой земли, я все еще думаю, что он продолжает разыгрывать комедию о пессимизме…
Пока Пьетро Ночера говорил все это, Тито смотрел на бульвар, где полицейский с белой палочкой в руке регулировал уличное движение, и думал:
«Все это ты говорил уже мне в первый же день нашей встречи: как все же человек повторяется.
– О чем ты думаешь? – спросил Пьетро.
– Я думаю, что ты искренний друг. Однако, главный редактор не приходит. Неужели он забыл?
Как это бывает в комедиех, не успел еще Тито окончить фразу, как тот, кого они ожидали, появился.
Главный редактор принадлежал к числу тех добрых людей, которые, если кому попадет в глаза соринка, дают тысячу самых полезных советов (дуй через нос, смотри вниз, ходи задом наперед, извлекай квадратный корень).
Ему было сорок лет: самый опасный возраст. Стариков не жаль, потому что они уже стары; мертвых не жаль, потому что они уже умерли: жаль тех, которые приближаются к старости, которые приближаются к смерти. Сорок лет! На так называемых амернканских горах тележка, скатившись с одной крутизны, задерживается на один момент в своем
55
стремлении перед второй крутизной и как бы собирается с силами; человек в сорок лет находится в такой же нерешительности: бег его замедляется, потому что крутизна и затем спуск, которого он не видит, но предчувствует, парализуют его. Главному редактору было сорок лет.
– Ненавижу кабачки, – заявил он, опоражнивая четвертую рюмку коньяку. – Все эти господа, которые танцуют по разным подобным заведением и воображают, что они развлекаются, не замечают того, что они не что иное, как пассивные инструменты в руках природы, которая дает им эти возбуждающие танцы, чтобы продолжать род.
И выпил еще одну рюмку.
– Я смеюсь из деликатности, – продолжал он немного погодя. – Смеюсь, потому что хочу скрыть мою меланхолию. А так как при помощи смеха это не удается мне, то я пью, чтобы скрыть, если не от других, то от себя, мою меланхолию; пью, чтобы скрыть морщины души; однако морщины души нельзя стереть; их можно сгладить на некоторое время, как это делают женщины, но потом они проявляются еще рельефнее.
И он снова выпил.
– Бешеная жизнь в типографиях научила меня читать и видеть все вверх ногами. Печальнейшая способность! Благодаря этому я утратил доверие друга, который был мне дорог, благодаря этому же я понял, что женщина, делавшая вид, что любит меня, презирала и обманывала меня.
И теперь я пью. Пью и гублю себя. Знаю это. Гублю себя, но вижу все в розовом свете. С меня и этого довольно. И, наблюдая, вижу мир таким, каким хотят заставить меня видеть оптимисты.
– А когда ты не пил? – спросил Тито.
– Когда не пил… Забыл… Верующие и мистики, когда окинут взглядом весь мир, не
видят красивых и увлекательных женщин, не видят достойных мужчин: они видят только скелеты, глазные впадины, челюсти без языка, зубы без десен, голые черепа и ноги, составленные из несуразных костей. Когда же я смотрю на мужчин, то вижу позвоночный столб и спинной мозг, от которого разветвляются нервы.
– Это мужчины, – сказал Тито. – А женщины?
– Женщины? Движущиеся матки. И ничего больше. Вижу движущиеся матки и мужчин, которые, как загипнотизированные, преследуют их и разглагольствуют о славе, идеалах, человеколюбии… Поэтому пью!
Через застланные табачным дымом окна был виден беспрерывный поток людей. Слышался, точно прибой морских волн, шум толпы и выкрики отдельных голосов. В этой бесформенной массе мелькали и скользили эластичные, мускулистые ноги женщин.
Современная Венера не обладает теми привлекательными и пухлыми ножками, которые восхищали наших дедов: нынешняя Венера заставляет думать о трепетной «герл» из английской труппы акробатов.
– Итак, я пью, – продолжал наставительно редактор. – Для меня оставалась еще, пожалуй, любовь. Но, в конце концов, я понял, что такое любовь. Это сладкое отравление, которое приходит от женщины, нравящейся мне. Через некоторое время весь яд, который я впитал в себя, улетучивается, и продолжающий исходить из нее яд не производит на меня уже никакого впечатления. Было время, когда мне доставляло удовольствие иметь соперников и чего-то добиваться, но теперь, когда я стал главиым редактором газеты и достиг высшого положения, которое могу занимать, я человек конченный. Сладость борьбы отсутствует уже хотя бы потому, что у меня нет больше противников, но, если бы они и были, я не стал бы утруж-
Читать дальше