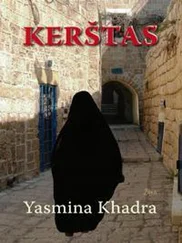Время от времени я виделся с Симоном. Мы здоровались, пожимали друг другу руки, порой садились за стол, чтобы выпить чего-нибудь освежающего и поговорить на какие-нибудь беспредметные темы, не представляющие никакого интереса. Поначалу он на меня злился, что я «прогулял» его свадьбу, будто банальный скучный урок, но потом спустил все на тормозах – по всей видимости, у него были дела поважнее. Жил Симон у Эмили, в большом доме у тропы Отшельников. На этом настояла мадам Казнав. К тому же свободных домов в городке на тот момент не оказалось, а тот, в котором жила семья Беньямен, был маленьким и лишенным каких бы то ни было достоинств.
У Фабриса родился второй ребенок. Это радостное событие вновь собрало нас всех – кроме Жан-Кристофа, который после письма Симону больше не подавал признаков жизни, – на прекрасной вилле у извилистой горной дороги в пригороде Орана. Андре воспользовался случаем, чтобы представить нам свою кузину и жену, могучую андалуску из Гренады, высокую, как башня, с крупным лицом, украшенным изумительными огромными зелеными глазами. Она была веселой, но строгой, когда речь заходила о том, чтобы преподать мужу урок хороших манер. В тот вечер я впервые заметил, что Эмили ждет ребенка.
Через несколько месяцев мадам Казнав отправилась в Гвиану, где контрабандистами был найден и опознан по личным вещам скелет ее мужа – директора тюрьмы в Сен-Лоран-дю-Марони, исчезнувшего в лесах Амазонки во время погони за беглыми каторжниками. В Рио-Саладо она больше не вернулась, даже чтобы отпраздновать рождение маленького Мишеля, ее внука.
Летом 1953 года я познакомился с Джамилей, дочерью адвоката из числа мусульман, которого дядя знал еще по учебе на факультете. Мы встретились случайно в одном из ресторанов Немура. Джамиля была не очень красива, но напоминала Люсетту; мне нравился ее спокойный взгляд и тонкие белые руки, бравшие самые различные предметы – салфетку, ложку, носовой платок, сумку, фрукт – с величайшей осторожностью, будто какую-то реликвию. У нее были умные черные глаза, небольшой круглый ротик и серьезный подход к жизни, выдававший строгое, но современное воспитание, обращенное к миру, к его трудностям и проблемам. Она изучала право, намеревалась пойти по стопам отца и сделать карьеру адвоката. Она написала мне первой – всего несколько строк приветствия на обороте почтовой карточки с изображением оазиса в Бу-Сааде, где практиковал ее отец. Я ответил ей лишь спустя несколько месяцев. Мы слали друг другу письма и поздравительные открытки долгие годы, не выходя за рамки обмена любезностями и не признаваясь друг другу в том, вокруг чего – то ли стыдливости, то ли чрезмерной осторожности – устроили заговор молчания.
Утром первого весеннего дня 1954 года дядя попросил меня вывести из гаража машину. Он надел зеленый костюм, в котором я видел его в последний раз тринадцать лет назад в Оране, во время обеда в честь Мессали Хаджа, белую рубашку, галстук-бабочку, сунул в жилетный карман золотые часы на цепочке, обул черные остроносые туфли и нахлобучил на голову феску, купленную недавно в старой турецкой лавке в Тлемсене.
– Поеду поклонюсь могиле предка, – сказал он.
И поскольку я не знал, где она находится, эта могила, дядя сам подсказывал дорогу, вившуюся среди деревень и проселков. Мы ехали все утро, не останавливаясь, чтобы отдохнуть или перекусить. Жермене, не выносившей запаха бензина, стало так плохо, что она буквально позеленела, а бесконечные повороты, швырявшие автомобиль то вверх, то вниз, чуть не добили ее окончательно. Ближе к вечеру мы выехали на вершину скалистой горы. У наших ног стойко сопротивлялась засухе равнина, расчерченная на клетки оливковыми рощами. Местами земля лопалась под напором эрозии, и растительность уступала место пустыне. Несколько запруд еще пытались сохранить лицо, но было очевидно, что засуха рано или поздно выпьет их до самого дна. У подножия холмов бродили стада овец, разделенные таким же расстоянием, что и пыльные, раздавленные тяжестью солнца загоны. Дядя приложил козырьком руку к глазам и стал всматриваться в горизонт. Но того, что искал, явно не нашел. Он поднялся по каменистому склону до жидкой рощицы, посреди которой окончательно превращались в тлен какие-то руины – остатки то ли мечети, то ли мавзолея, дошедшего до нас из другой эпохи, который суровые зимы и знойное лето не пощадили, разрушив до основания. В тени невысокой стены, путавшейся в собственных развалинах, таилось выгоревшее на солнце, испещренное трещинами захоронение. Это и была могила предка. Дядя очень огорчился, увидев ее в столь плачевном состоянии. Он снял перекладину, прислонил ее к глинобитной стене и с невыразимой грустью на нее посмотрел. Затем почтительно открыл изъеденную червями деревянную дверь и вошел в святилище. Мы с Жерменой остались ждать во дворике, заросшем колючим кустарником. Молча. Поскольку дядя на могиле патриарха забыл обо всем на свете, Жермена села на камень и обхватила руками голову. После нашего отъезда из Рио-Саладо она не произнесла ни слова. Когда Жермена вот так молчала, я всегда опасался худшего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу