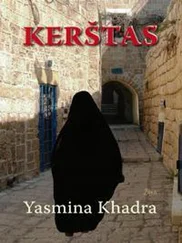Мрак моей памяти будто рассеяла зигзагом молния, и в голове вихрем закружился целый ворох воспоминаний. Я тут же все вспомнил: Эмили!.. которую сопровождал колосс с фигурой менгира . До меня наконец дошло, почему в день пикника ее лицо приняло столь странное выражение, когда я сказал ей, что работаю в аптеке. Она была права: мы действительно уже где-то встречались, давно-давно.
– Вспомнили?
– Да.
– Вы спросили меня о Гваделупе, и я ответила, что это французский остров в Карибском архипелаге… А когда обнаружила в книге розу, на меня будто что-то нашло, и я прижала книгу к груди. Тот день я помню так, будто все было только вчера. Ваза с цветами была вон там, на старом пузатом комоде. А за полками стояло изваяние Девы Марии из гипса какого-то светлого оттенка…
Пока Эмили ворошила мои воспоминания, возвращавшиеся с поразительной точностью, ее нежный, вдохновенный голос приводил меня в оцепенение. Ощущение было такое, будто меня медленно увлекает за собой мощный паводок. Будто в противовес ему в голове всплывал голос мадам Казнав – умоляющий, стонущий, приказывающий оставить ее дочь в покое. Несмотря на всю его оглушительность и плотность, голос Эмили пробивался ко мне легко и свободно, чистый, прозрачный и острый, как игла.
– Юнес, правильно? – сказала она. – Я ничего не забыла.
– Я…
Она приложила к моим губам палец.
– Прошу вас, сейчас не надо ничего говорить. Я боюсь того, что вы собираетесь мне сказать. Мне нужно перевести дух, понимаете?
Она взяла мою ладонь и положила ее себе на грудь:
– Чувствуете, как бьется мое сердце, Жонас… Юнес…
– Мы совершаем дурной поступок, – сказал я, не осмеливаясь убрать руку, загипнотизированный взглядом девушки.
– Что же в нем плохого?
– Жан-Кристоф вас любит. Он безумно в вас влюблен, – сказал я, чтобы усмирить голоса матери и дочери, завязавшие в моей голове настоящее сражение. – Он всем рассказывал, что вы собираетесь за него замуж.
– Почему вы мне о нем говорите? Сейчас речь идет о нас.
– Прошу прощения, мадемуазель, но Жан-Кристоф мне значительно ближе и дороже старого детского воспоминания.
Мои слова Эмили явно задели, но удар она выдержала достойно.
– Я не хотел вас обидеть, – пробормотал я, понимая, что поступил грубо, и пытаясь все исправить.
Она вновь приложила к моим губам палец:
– Не просите прощения, Юнес. Я все понимаю. Скорее всего, вы были правы, я действительно выбрала не самый подходящий момент. Но для меня очень важно, чтобы вы обо всем знали. Для меня вы значите значительно больше, чем старое детское воспоминание. У меня есть все основания так думать. В любви нет ничего преступного или позорного, за исключением тех случаев, когда ее приносят в жертву, в том числе и ради самых возвышенных целей.
С этими словами Эмили вышла из аптеки. Бесшумно. Даже не оглянувшись. Я никогда в жизни не чувствовал в душе более острого одиночества, как в тот момент, когда ее поглотил уличный шум.
Жан-Кристоф был жив.
Весь Рио-Саладо облегченно вздохнул. Как-то вечером, против всех ожиданий, он позвонил матери и сообщил, что с ним все в порядке. По словам мадам Лами, голова ее сына оставалась ясной. Говорил он спокойно, простыми и правильными словами, и дышал при этом размеренно. Она спросила его, почему он уехал и где сейчас находится. Жан-Кристоф пустился в путаные объяснения, сказал, что на Рио-Саладо свет клином не сошелся, что ему хочется посмотреть другие края, пойти по другому пути. Таким образом он ушел от ответа на вопрос, куда пропал и на что теперь живет, уйдя из дома без денег и багажа. Настаивать мадам Лами не стала; ее отпрыск наконец дал о себе знать, и на том спасибо. Она догадывалась, что он получил сильнейшее душевное потрясение, что притворная «рассудительность» ее мальчика представляет собой не что иное, как манеру скрыть истинные чувства, и боялась, что, если она слишком начнет ворошить рану, из нее вновь хлынет кровь.
Затем Жан-Кристоф написал длинное письмо Изабель, в котором признался в страстной любви к ней и выразил сожаление по поводу того, что не позволил расцвести ей пышным цветом. Это было нечто вроде завещания, и Изабель Ручильо плакала горькими слезами, убежденная в том, что отвергнутый ею «жених», отправив это послание, бросился либо с высокой скалы, либо под колеса локомотива, – штамп на конверте стоял неразборчивый, и, откуда его прислали, никто не знал.
Три месяца спустя Фабрис получил свое письмо, изобиловавшее извинениями и угрызениями совести. Жан-Кристоф признавал, что поступил как опьяненный стремлением к обладанию эгоист, нарушил элементарные правила условностей и не выполнил своих моральных обязательств перед человеком, которого любил еще со школы и считал лучшим другом… Координат при этом он не оставил.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу