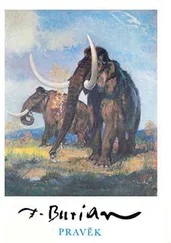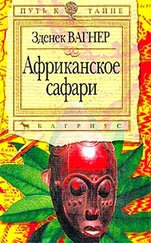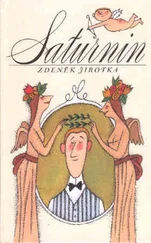— Вы тоже завербовались на работу во Францию? — спросил Гонзик, и голос его внезапно осекся.
Носильщики вступили в тусклый конус света. На головах у них были замусоленные пилотки. Парни поставили бидоны, посмотрели на Гонзика и поначалу не поняли его, а потом один из них осклабился, открыв редкие мелкие зубы, и постучал себя пальцем по лбу:
— Соображаешь, где находишься?
Наступила глубокая тишина, только из одного окна доносились звуки гармоники. Жаждущий Билл встал со своего чемоданчика. Гонзик проглотил слюну. Мрачное предчувствие железным обручем сдавило грудь, и вот прозвучали два страшных слова: «Иностранный легион!»
У Гонзика ослабли колени, нижняя челюсть отвисла, и он не способен был совладать с нею. Гонзик замахал перед собой руками, потом схватился за горло похолодевшей рукой. Носильщики бидонов маячили перед ним как призраки. Смертельная тоска, какой он еще никогда в жизни не испытывал, придавила Гонзика к земле. Три долгие секунды протянулись. Напрасно он пытался вскрикнуть. Чьи-то невидимые грубые лапы душили его. Но вдруг какая-то сила бросила его к воротам. В три прыжка очутился он у калитки, схватился за щеколду и стал судорожно дергать ее. Лишь теперь спазма в горле ослабла.
— Пустите меня, я не хочу!..
Дикий, отчаянный крик Гонзика разнесся по темному двору казармы, заглушил гармонику, проник в сердца его спутников. Их циничные физиономии вытянулись и посерели. Гонзик в невменяемом состоянии, со слезами на глазах ринулся к часовому и, не соображая, что делает, бросился перед ним на колени, обеими руками обхватил его ноги. Резкий пинок коленом в грудь отбросил его к противоположной стене, и он остался сидеть на земле, бормоча что-то и размазывая левой рукой грязь и слезы по лицу, а правой шарил около себя в пыли, отыскивая упавшие очки.
— Встань, идиот, — услыхал над собой Гонзик, — и марш наверх!
Гонзик не знал, как очутился в канцелярии за письменным столом; он судорожно водил рукой по краю залитой чернилами доски. Он слышал голоса, шаги, видел людей, но все это плохо воспринималось его сознанием, было как бы нематериальным. Подобное с ним однажды уже было, когда ослабло действие наркоза и он пришел в себя после операции аппендицита.
Чья-то рука придвинула ему бумагу, перо и чернильницу. Гонзик порывисто оттолкнул все это, разбрызгав чернила.
— Нет, нет, нет! — без конца повторял несчастный Гонзик, бланк перед его испуганными глазами терял свои очертания, и Гонзик вдруг заметил, что за ногтями у него чернила, но в тот же миг мысль об этом исчезла, уступив место одному-единственному, четко осознанному решению: «Не подпишу!»
За столом перед ним появилось новое лицо. Гонзик услыхал чешскую речь.
— Ну, не валяй дурака, подпиши. — Гонзик увидел ободряющую улыбку, широкие пожелтевшие зубы, коротко остриженные волосы.
— Я хочу говорить с инженером Бернатом!
Круглая физиономия перед ним повеселела.
— С инженером? Ага, так-так! Хорошо еще, что он не отрекомендовался председателем парламента.
Гонзик стиснул виски руками.
— Я хочу говорить с инженером Бернатом, — повторил он с безрассудным упрямством.
— Хватит разыгрывать комедию! — в голосе переводчика послышались твердые нотки. — Мы не знаем ни инженера, ни Берната. Послушай, болван ты эдакий, — переводчик перегнулся через стол, опершись на него локтями, — подпишешь — немедленно получишь превосходный ужин, флягу вина, сигареты, кофе — все и, кроме того, еще пять тысяч франков. Ты меня слышишь? Пять тысяч! Деньжищи-то какие, а?
— Не подпишу, — сказал Гонзик.
Переводчик забарабанил короткими пальцами по столу. Его тупой указательный палец был коричневым от никотина.
— Почему ты эмигрировал? Только не сочиняй сказок, будто ты политический, — замахал он руками, хотя Гонзик и рта не открывал. — Ты хотел романтики, приключений, да? Ну так вот, теперь ты получишь возможность увидеть море, Африку, пустыню, джунгли. Денег у тебя будет сколько угодно, а баб — каких только сам захочешь. После года службы начнешь получать по две тысячи в месяц и станешь настоящим барином. А через пять лет, если не захочешь служить, скажешь: «Адью, Иностранный легион!»
Гонзик упрямо, не мигая, смотрел в холодные глаза своего искусителя. «Наступила минута, когда ты обязан проявить все свои душевные силы», — лихорадочно думал он. В этот момент ему трудно было уяснить себе последствия того единственного, чего от него требовали, — росчерка пера на вербовочном бланке, но всеми фибрами души он понимал, что не смеет, ни в коем случае не смеет сделать этот росчерк, — от этого его сознание вины только многократно усилилось бы.
Читать дальше
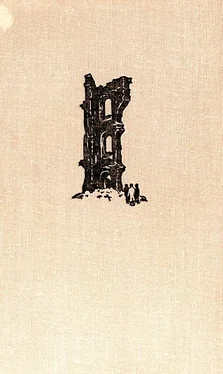

![Зденек Трейбал - Искусство вождения автомобиля [с иллюстрациями]](/books/12205/zdenek-trejbal-iskusstvo-vozhdeniya-avtomobilya-s-il-thumb.webp)