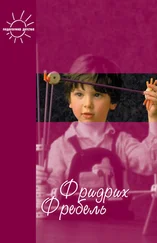Я не отвечал, будто Юлюс обращался не ко мне, а к запотевшим стенам зимовья.
— Ты бы, конечно, мог вести себя как тебе угодно, будь ты один, — продолжал он. — Но мы ведь вдвоем подписывали договор, значит, вместе должны и выполнять.
Дикая ярость обуяла меня. Казалось, вот-вот кинусь на него и… Болван! Где ему понять, что творится в моей душе! Почему я стал таким вялым, апатичным, почему меня ничто не интересует и не волнует, почему не хожу в тайгу, а отсиживаюсь в зимовье и, что греха таить, ищу успокоения на дне бутылки! Неужели он настолько равнодушен или настолько слеп, что не видит, как я страдаю? Ведь я — безнадежный больной: глаза запали, щеки ввалились, нос заострился, как у покойника, ватник болтается, точно на чучеле, штаны падают, а он ничего не замечает. Юлюс может печалиться о судьбах всего человечества, а то, что рядом с ним человек, можно сказать, погибает, это его ничуть не волнует. Гораздо проще абстрактно любить все человечество, чем помочь одному конкретному человеку.
— Если мы не добудем, сколько обязались, — никто не поверит. Знаешь, что подумают люди и что будут говорить за глаза? Не знаешь! А они скажут вот что: Юлюс Шеркшнас комбинирует! Небось на черном рынке спекулянты платят соболятникам за шкурки вдвое, даже втрое больше, чем в фактории. Так что дело ясное — Юлюс Шеркшнас соблазнился длинным рублем, утаил от государства свою добычу, сбыл спекулянтам — вот что станут думать и болтать люди!
Если бы не эта озабоченность, — что подумают люди, — я бы еще, может, промолчал, но это беспокойство по поводу своей репутации, боязнь сплетен показались мне такими мелкими, низменными, что я бешено заорал:
— А поди ты к черту со своими нравоучениями!
Юлюс стоял у столика, и на лицо ему падала полоска света из окна. Я видел, как его щеки стали бледнеть и сделались бумажно-белыми.
Больше мы не сказали друг другу ни слова.
Мой разум бессилен постичь, как в безбрежных просторах Вселенной существует бесчисленное множество галактик, как это, как?! Человеческий опыт и бытие научили нас познавать лишь четко определенные формы и вмещать все в те или иные рамки — побольше или поменьше: материнское лоно, колыбель, комната, дом, государство, материк, земной шар. Но — бесконечность? Как представить себе то, что не имеет ни начала, ни конца? Так размышлял я, скользя по своей старой лыжне, которую за несколько дней моего безвольного лежания на нарах в зимовье успел припорошить пушистый снег. Лыжня едва виднелась, и лишь зарубки на лиственничных стволах указывали дорогу. Я высматривал их, эти белые раны деревьев, переходил от одной к другой и знал, куда они приведут меня, а в сердце все равно таился страх, точно я шел в неизвестность. Тайга представлялась мне Вселенной без начала и без конца. В последние дни тайга была для меня тюрьмой, самой жестокой, какую можно выдумать. С одной стороны, ты вроде бы полностью свободен — ни стен, ни решеток на окнах, ни заграждений из колючей проволоки, ни охраны, а все равно тебе не вырваться из этой тюрьмы. Свободен в неволе — так, пожалуй, можно это назвать. Или — невольник на воле! А вдруг я действительно спятил за эти несколько месяцев? Как-то ночью у меня в голове вертелось, точно испорченная пластинка, начало какого-то нелепого стишка — насквозь промокшие, с поджатыми хвостами, таились соловьи в кустах… Надо же — с поджатыми хвостами… да еще насквозь промокшие… Сущая белиберда! А когда проснулся, когда прекратился весь этот кошмар, сразу навалились всякие черные мысли. До самого утра я не мог сомкнуть глаз, все думал. О тех, кто не пришел и никогда не придет на эту землю, хотя и мог прийти. Мы — те счастливцы, которым было суждено прийти. Мы — избранные, ибо несравнимо больше есть тех, кто не придет. А мы, которые пришли, не умеем радостью воздать благословенной судьбе за то, что пришли. Так вышло и у нас с Дорой. Вместо того чтобы радоваться, благодарить судьбу за то, что явились на свет, что разыскали один другого в миллионных джунглях людских, мы проклинали собственную участь, а друг другу говорили обидные слова, о которых я вспоминаю сейчас иногда с досадой, а иногда и со смехом… Прошлой ночью подобные воспоминания подняли меня с нар: невмоготу было оставаться в зимовье, и я вышел за дверь, доковылял до берега, боясь остановиться, так как в тайге стояла такая тишина, что в ушах от нее звенело, а от ходьбы хоть снег скрипел и не было этой жуткой, недоброй тишины, становилось легче, словно рядом шел близкий человек. Многие считают, что самое тяжкое одиночество — это когда чувствуешь себя одиноким в толпе. Возможно… Однако и полное одиночество, как вот сейчас у меня, — не легче. Юлюс, хоть он и чудак, а говорит верно: надолго идти в тайгу можно лишь с чистой совестью и легкой душой, так как малейшее недоразумение, вынесенное из дома, обрастает здесь дополнительными страданиями. Я на себе убедился, насколько Юлюс прав: редко удавалось выспаться по-человечески. То вовсе не мог уснуть, то снились всякие ужасы. В одну из таких ночей, не находя себе места, я снова раскрыл тетрадь Юлюса. В прошлый раз я читал ее наугад, раскрывая где попало, а сейчас прочел все от начала и до конца. Особенно глубоко поразили меня его рассуждения о любви, я даже запомнил их наизусть. «Человек должен учиться у умирающих, — было написано в красной тетради. — Всякий умирающий скажет, что все в жизни — богатство, деньги, всякие прочие блага — чепуха, а главное — это сам человек и добрые отношения между людьми. Почему только перед лицом смерти мы начинаем это понимать?» Как будто ничего нового, и все же этот совет — на все смотреть глазами умирающего — меня потряс. И я взглянул на себя и на Дору, на прожитые совместно дни именно глазами такого умирающего и увидел свое собственное ничтожество, мелкость чувств, массу всякого хлама, мусора, скопившегося в душе и заслонившего самое главное — нашу любовь. Мне казалось, что сейчас, после такой долгой разлуки, я возвращусь домой и начну новую жизнь. Разумеется, если вернусь, если мне действительно суждено когда-нибудь вырваться из этой необъятной тюрьмы…
Читать дальше