— Почти. Есть такой шофер. Обыкновенный парень, вчерашний солдат Иван Василенко…
— Знаю этого парня! — горячо воскликнул Остап Крамор, дослушав рассказ. — Только обыкновенным, в смысле заурядным, я бы ею не называл. Вот если обыкновенныйтолковать как типическийдля Турмагана — тогда куда ни шло. Характер у него на крепкую рабочую сердцевину насажен… Я, знаете ли, из породы сомневающихся. Даже в боге сомневаюсь, а уж в земном… — Отмахнулся, дескать, и говорить нечего. — В родном гнезде и то как в кратере. Вот и пошел рушить… Ниспровергать, скажу вам, преприятнейшее занятие. Сперва бьешь по равным, крушишь личные, семейные устои — и закипаешь радостью, пылаешь азартом, любуешься, красуешься. А рука раззуделась, и плечо размахнулось, и нога — сама на порожек пьедестала пророка. Тут уж — все нипочем. Тут уж — никакого удержу… Колеблешь столпы вселенной… Сладостная игра в нео-Раскольникова. Но коварная!.. Раскачивая вокруг — расшатываешь в себе. Ни веры, ни идеалов, ни цели. Пустошь и мрак. Весь мир серый. Для художника это — конец. Он уже не творит — малюет. С того и злится. С того и бесится. А чтобы оправдаться перед собой… Угадали ведь? Поняли? Именно — водка! И не тем, что оглушает, спускает тормоза. Оправдывает творческий импотент — вот главное! «Кабы не пил, кабы не она…» И этот яд капля по капле в кровь… в кровь…
Крамор метался по балку и говорил, говорил с потрясающей откровенностью. С чего прорвало его? Почему именно в сей миг? Перед этим по сути незнакомым человеком? — не ответил бы и сам. Да вовсе и не этому белокурому флегматику с телячьими глазами исповедовался Остап Крамор. Перед собой выворачивался, себе каялся, себя судил. Это был первый стихийный и неукротимый взрыв самосуда, первый за все годы блуждания в потемках.
Ошеломленный Ивась, постигнув происходящее, внутренне содрогнулся от боли, рожденной схожестью дум и чувств Крамора со своими. И он, Ивась, сомневается и ниспровергает… Потому-то каждая фраза Остапа Крамора не просто задевала, волновала, а потрясала Ивася, и тот боялся лишь, чтобы как-то ненароком не спугнуть Крамора. Завороженно и молча смотрел Ивась на художника, а тот, подогретый вниманием, говорил и говорил:
— Я сюда не случайно. Нет. Мог бы в другой угол. Слишком громко стали петь об этом Турмагане. Нефтяная целина! Покорители! Первопроходцы… Не веря, потянулся сюда, чтоб причаститься. А ну как правда? Все так и есть? Испить глоток живой воды… Понимаете? Вот ведь что руководило. Подспудно, подспудно, конечно, но двигало, вело…
— Двигало, двигало… — бессознательно, эхом подтвердил Ивась.
— Вот видите? Стало быть, так и было, — обрадовался поддержке Крамор. — Пока толкался в Туровске на вокзале да на аэродроме, от злорадства чуть не лопнул. Тот тыщами бредит, другой башку от беды спасает, третий по жизни — как навоз по воде, подхватила струя — понесла. Вот так первопроходцы! Вот так покорители! Смеюсь. Ликую. А все же хочется еще ближе, чтоб и на глаз, и на ощупь, чтоб уж полное подтвержденье собственной прозорливости… Первая встреча с Бакутиным — как подножка. Опрокинула и затылком о твердь… Ведь угадал, разглядел во мне еще не поржавелый, могущий вспыхнуть волосок. Поверил. Без рисовки. Без насилия над собой. Как человек человеку, равный равному… Потом эти три танкиста и вот этот самый Иван Василенко с его «гори до золы»… Засомневался я в себе. Не в них — слышите?! — не в них, а в себе… Хватит ли сил? — не знаю. Но хочется, поверьте, так хочется… Всю ржу. С мясом! С болью! С мукой! Лишь бы соскрести. Лишь бы чистым. В ряд, вместе с ними… Иногда хочется кисть к черту, в руки топор. Не смогу. Топором и ломом — не смогу. Поизносился. Ни сноровки, ни опыта. Только кистью. Тут мой самый главный экзамен на человеческое званье. Выдержу ли? Хватит ли сил? И таланта. Таланта непременно… Господи!.. Иногда молюсь. Можете смеяться, а я молюсь. Одолеть, опрокинуть, перевернуть себя — это только титаны, я же — песчинка. Вот и цепляюсь даже за бога… Выстоять бы…
Остап Крамор обессиленно пал на скамью и долго молчал, побито хватая воздух ртом, сухо и звонко хрустя пальцами стиснутых рук. Лишь в ранней юности куривший Ивась вдруг вынул из пачки сигарету и закурил. От первой затяжки закружилась голова. Ивась выдержал небольшую паузу и снова затянулся, притупляя надсадную душевную боль. Ворохнулась мысль: «Спросить, в чем же необычность Василенко?», но говорить не хотелось, да и сил не было — их поглотило волненье.
Читать дальше
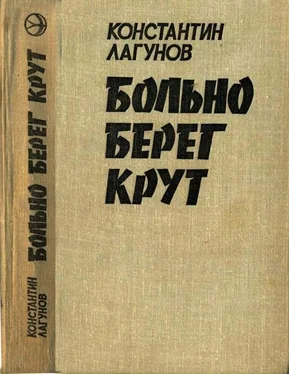








![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

