Подсеченный воспоминаниями о сыне, Бакутин расслабленно затих. Пожалуй, больше всего на свете ему сейчас недоставало Тимура. Тимура и Аси… Сами себе усложняем жизнь, сами себя обкрадываем… Черт возьми! В чем же суть? Почему?.. Целый бурелом вопросов. Не продраться. Не прорубиться. Заездили проклятые мысли, не отмахнешься, не открестишься. Да и к чему? Что в тебе — всегда с тобой. И все равно нужно разглядеть, нащупать первую трещинку, первый неверный шажок, первое фальшивое слово. Были же они. Вдруг ничего не случается. «Чирий без причины не вскочит», — говорила бабка.
И в сотый, в сто сотый раз начал Бакутин перематывать прожитое, отыскивая на ощупь тот неприметный глазу изначальный надрыв, от которого стала размочаливаться их жизненная нить, рассучиваться до тех пор, пока не заструилась на особицу…
Он помнил то утро до мелочей, словно отошел от него не на двенадцать лет, а на двенадцать минут. Все помнил. И чуть замутненный туманом воздух. И сладковатый, щекотный аромат только что подстриженной молодой травы в газоне. И бабочку. Большую, махровую, оранжевую бабочку, которая никак не хотела улетать от него… Чего-то он ждал тогда. Да-да. С первой минуты пробуждения. И чем дальше в день, тем становилось сильней это ожидание.
Говорят, человек предчувствует смерть, улавливает ее приближение, даже если и вовсе здоров. Может быть. Когда-нибудь он проверит и это. Но тогда он предчувствовал взрыв, переворот в себе. И не ошибся…
Он прошел мимо. Скользнул взглядом, мимолетно, бездумно, и прошагал. Вдруг будто «стой!» в спину. Дрогнул, замер, оглянулся. Она тоже обернулась и… Такую красоту он видел только на старинных портретах.
Насмешливо дрогнули спелые губы, и перед ним ее надменная спина, по которой стекали черные длинные волосы. Он шел следом до ее подъезда. До вечера торчал там, ожидая. Несколько раз входил в холодный, темный подъезд, поднимался на десяток ступеней, но хлопала дверь, и он стремглав улепетывал. Его заметили, стали коситься, кто-то прямо спросил: «Чего надо?» — «А ничего», — беспечно и счастливо откликнулся Гурий.
Наконец она вышла и, бровью не шевельнув, не глянув, прошла мимо. Он прокрался тенью за ней до гастронома и обратно. К ночи он обалдел от счастья, вызнав ее имя и отчество и номер квартиры, в которой она снимала комнату. В тот же вечер позвонил ей с ближнего автомата. «Не кладите трубку. Не сердитесь. Сам понимаю: глупо, банально. Но не знаю, как по-другому. Теперь говорите». — «Что?» — «Все равно. Как вас зовут?» Она повесила трубку. Он снова позвонил. Она взяла трубку, но, услышав его голос, снова повесила. Он долго еще крутил диск, но в наушнике, кроме долгих басовитых гудков — ничего…
С ней приходилось держаться всегда настороже, чуть зевнул — и кувырок. Не так взглянул. Не то слово. Не тем тоном. В этом постоянном напряженном ожидании выпада была своя прелесть. «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю…» Прав Александр Сергеевич: есть упоение. Еще какое. Что легко дается — мало ценится. По гладкому — ни бежать, не идти, лишь шаром катиться. А он хотел прорываться, штурмовать. Атака — вот наивысшая радость…
Он вырос на махоньком островке, затерянном в безбрежном колючем океане тайги. Десятка два домов с крытыми бревенчатыми дворами, черемуха в палисадах, тайга с четырех сторон.
Дед и отец сызмальства приохотили Гурия к земледельческому труду. Пас лошадей, возил снопы и навоз, косил и греб. И хоть делал все это старательно, наперегонки со сверстниками, но душа его рвалась к машинам, к огню и железу. Часами простаивал в дверях кузницы, раскрыв рот и глаза, а если дед Маркел позволял покачать мехи горна, Гурий едва не плакал от счастья.
Безграмотный, черный ликом и волосами Маркел Мордвинов был одержим идеей вечного двигателя. В специальном пристрое к кузнице полжизни мастерил Маркел вручную свой перпетуум-мобиле — громоздкое хитросплетение зубчатых колес, трансмиссий и цепей. Вход в тот пристрой был заказан всем, кроме Гурия. Не дыша, мальчишка пробирался к сердцу механизма, толкал гиреподобный маятник, и нагромождение деталей вдруг превращалось в единый механизм и оживало. С громким скрежетом и перестуком начинали вращаться маховики, крутились шестерни, а маятник качался, оглушительно тукая.
Старик и ребенок, обнявшись, стояли в дверях пристроя, целиком поглощенные ходом Маркелова вечного двигателя. «Кабы грамоты мне, — не однажды говаривал старик, — я б такое изделал. Такое изделал. Сперва на бумаге бы надо, опосля из железа. Повременить бы мне на свет-то годков на тридцать. Эх, паря…» И такая тоска была в его голосе и во взгляде, что Гурий едва не плакал от сострадания.
Читать дальше
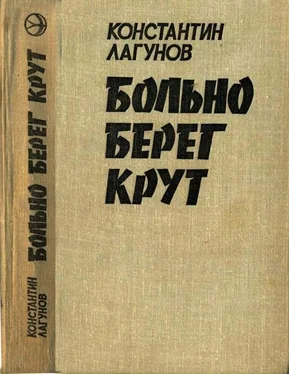








![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

