Незримое сияние праздника озаряло мир. Предчувствие радости пропитало, накалило всех до взрыва. И даже в тесной душной церкви, пропахшей воском, ладаном и старостью, даже здесь было необыкновенно светло, нарядно и празднично. Отец Зота стоял, как всегда, впереди других, на виду у людей и у бога. А подле отца, тоже на виду, важничая, пузырился шестилетний Зот…
Это-то уж точно было наяву. Как и тот горький, страшный обоз, доверху набитый узлами и стонущими, плачущими, матерящимися людьми. По самому сердцу Зота проехал этот обоз. И копытами, и полозьями прямо по сердцу…
Легко отшвырнув скорбное видение, Шорин вздохнул поглубже, кинул сквозь крупные редкие зубы излюбленное: «Алеха-бляха!» — и снова праздник в нем и вокруг — праздник.
Весь свет звенел как один исполинский колокол. Орал, хохотал и пел в сто тысяч озорных, хмельных, ликующих глоток. Оглушительно, громоподобно, яро, сотрясая, раскалывая небо, колыша под ногами землю.
В громовой колокольный гуд вонзился дробный рассыпчатый цокот. В диком лихом галопе распластались кони, черные вихри над гнутыми шеями, бешеный посверк скошенных глаз. Блещет надраенная сбруя. Струнами натянуты витые ременные вожжи, и пронзительно и шало заливается гармоника. И, заглушая ее, горланят девки:
Два конца. Два крыльца
В памяти осталося.
Целовались на одном,
На другом — рассталися…
«Да-да. Два конца. Сама жизнь и все в ней — о двух концах, какой по тебе, каким ты — не угадать. Держи крепче, стой тверже, бей наповал, чтоб от другого конца самому не сковырнуться», — подумалось мельком, и снова его поглотил праздник.
Рвутся, скользят, улетают из конских грив разноцветные, длинные ленты. И косы у девок повиты лентами. И небо в лентах — голубых, желтых, красных. И земля в разноцветных лоскутьях.
Бывали дни веселые,
Гулял я, молодец…
Качается улица, встает дыбом. От ослепительно ярких красок рябит в глазах. Несокрушимыми, ураганными волнами перекатывается по деревне песня:
Не знал тоски-кручинушки,
Как вольный удалец…
С гулким, угрожающим рыком неслись по бетонке «Ураганы», КрАЗы, «Татры», грохотали гусеницами тяжелые всесильные тягачи, грозно посверкивали траками бульдозеры, покачивали стрелами экскаваторы. Клубилась смешанная с дымом едкая красноватая пыль. Дрожал, стонал, кряхтел под машинами бетон, а Шорину слышался и виделся далекий, похожий на сон, хмельной и безудержный деревенский праздник.
Грохоча моторами, скрежеща гусеницами, шурша шинами, мчалась мимо жизнь сегодняшняя — пропахшая бензином и гарью. Стремительная, неумолимая. Слепила, глушила, хлестала по чувствам и нервам. А Шорин, блаженно щурясь, был там, в иной, давно прожитой, но не забытой жизни. Было ли на самом деле когда-нибудь такое? А может, это всего-навсего игра воображения счастливого человека? Сладостная, самозабвенная, милая уму и сердцу игра…
«Было, было, было», — отстукивали литые подкованные каблуки Шорина. «Было, было», — пропыхтел встречный трубовоз, метнув в Шорина из-под колеса осколок кирпича. «Что было, то было, быльем поросло», — пропел вдруг рвущий душу низкий, грудной голос Анфисы.
— Было. И есть. И будет, алеха-бляха! — натужно выговорил Шорин. — Будет. Теперь-то уже наверняка!..
Давно жизненные тропки Гизятуллова и Шорина спешили друг другу навстречу. Очень давно. И вот сегодня наконец они сомкнулись в неприметной, невидимой стороннему глазу точке, и сомкнулись, как почуял Шорин, — намертво, навсегда. Отныне они пойдут вместе, рядом, хотя и каждый к своей высоте. Оттого и возликовал Шорин, спустил с привязи чувства, вознесся бог весть в какую фантастическую высь, залетел в ту запретную, позабытую, вычеркнутую из памяти даль и, околдованный, опьяненный ею, надолго утратил связь с действительностью.
Для человека стороннего, непосвященного так взволновавший Шорина разговор с Гизятулловым показался бы обыкновенным, дежурным разговором умного начальника с уважаемым и значимым подчиненным. Встретил Гизятуллов мастера как всегда, с чуть приметной хитринкой в черных глазах, с легкой лукавой улыбочкой на полных красных губах. Потискал в потной мясистой ладони длиннопалую сухую руку Шорина, усадил его подле маленького столика, уселся напротив, подвинул пепельницу:
— Кури, Зот Кириллыч.
Сам Гизятуллов не курил, табачного духу не терпел и пепельницу держал в кабинете лишь на такой вот случай. Только самым избранным, почитаемым разрешал Рафкат Шакирьянович отравлять табачным дымом окружающую атмосферу. Шорин знал это, оттого самодовольно ухмыльнулся, но не закурил, хотя и очень хотелось, сказав негромко, с мужиковатой нарочитой прямотой:
Читать дальше
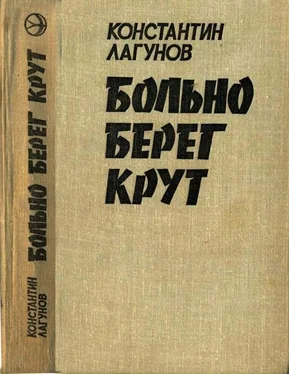







![Константин Лагунов - Красные петухи [Роман]](/books/423980/konstantin-lagunov-krasnye-petuhi-roman-thumb.webp)

