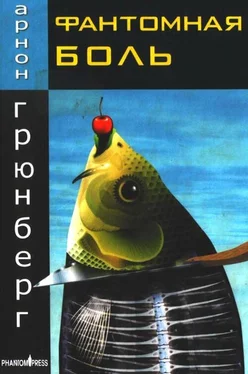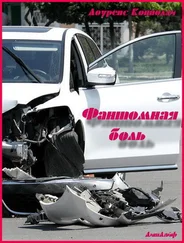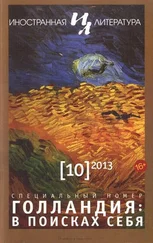Я опустил черный экран, чтобы женщина-шофер нас не видела.
Произошла серьезная авария — пострадало много машин.
— У меня нет жизни, — сказала Эвелин, — но у меня есть ты.
Между ягодиц у нее пряталась полоска трусиков-стринг.
Снаружи доносился вой многочисленных сирен «скорой помощи» и пожарных машин.
Она села на меня верхом. Наша машина стояла, и от этого стало чуточку удобней.
— Как тебе моя прическа? — спросила она.
— Очень здорово, правда.
— Я ее специально сделала для сегодняшнего вечера.
Звук сирен усилился.
— Наверное, есть жертвы, — предположил я.
Я оторвал несколько пуговиц на ее блузке, но она сказала, что это не страшно.
— Осторожно, мои очки, — сказал я, — у меня нет с собой запасных.
Низко-низко кружил вертолет, забирал тяжело раненных.
— Знаешь, чего я хочу? — спросила она.
— Постой-ка, — сказал я.
Я приподнялся и стал искать безопасное место для очков. В итоге я сунул их в морозилку, на лед — прямо скажем, подходящее место для очков! — после чего прополз обратно на заднее сиденье. Моя рука скользила по ее потной спине, я думал о ее детях, о своем опьянении, которое потихоньку овладевало всем моим организмом.
Над землей кружилось уже несколько вертолетов.
— Я хочу снять с тебя ботинки, — сказала она.
— Скажи, теперь, когда ты живешь у сестры, ты не скучаешь по своему водителю автобуса?
Она не потрудилась развязать шнурки на моих ботинках. Просто сдернула их — я услышал, как заскрипела кожа. Потом она сорвала с меня брюки — я услышал, как рвется хлопчатобумажная ткань. Наконец сорвала с меня трусы — я услышал, как лопнула резинка.
Опьянение добралось мне уже до колен и медленно опускалось ниже. Оно усиливало во мне голод, как ветер зимой усиливает мороз.
Липкими от пота руками я ворошил ее волосы, еще недавно уложенные в красивую прическу.
— Расслабься, — сказала она, — я хочу все сделать сама.
У нее были длинные ногти, очень длинные, ради сегодняшнего вечера она специально сделала маникюр.
Я снова услышал вой многочисленных сирен и голос Эвелин: «Не бойся, я не оставлю царапин».
Но я и не боялся царапин. Какое это теперь могло иметь значение? Вся моя жизнь не оставила царапин — ни одной настоящей царапины, все происходило только в моем воображении.
«Оставляй, пожалуйста, царапины и синяки, — хотел сказать я, — оставляй их великое множество, преврати все мое тело в минное поле».
Но мой детородный орган был уже у нее во рту, по-прежнему низко кружили вертолеты, а где-то вдали кто-то кричал и просил воды.
Я вспомнил, как она однажды рассказывала, что внутри у нее до того тесно, что водителю автобуса порой не удавалось в нее протиснуться, но еще она рассказывала, что водитель автобуса не любил долгой прелюдии в постели, потому что целый день проводил за баранкой.
— Я хочу на тебе покататься, — прошептала она.
Ну разумеется, дрессировщик людей теперь сам превратился в лошадь.
Тут все сирены отчего-то смолкли, даже вертолеты и те куда-то подевались. Остались только мы с Эвелин, ее плотные ляжки, пот у нее между ягодицами, мои руки и эта теснота у нее внутри, которая порой не давала водителю автобуса в нее войти, — он махал рукой и шел пить пиво с приятелями.
Наконец она с меня слезла.
— Теперь возьми меня, — сказала она.
Я сбросил ее на пол. Либо это она сама упала. Возможно, мы оба упали на пол, на пол лимузина, на который с перепою кого-то рвало, на смрадный пол, весь липкий от подозрительных субстанций.
Я перевернул ее. «Какая же ты красивая, — хотел сказать я, — ну почему именно сегодня ты, дурочка, такая красивая?» Но вместо этого я сказал:
— Ты сама-то хоть замечаешь? Твой капуччино с каждым днем все хуже и хуже. Думаю, я скоро попрошу Соню мне его готовить.
— Ну как мне, скажи, тебя не любить?! — воскликнула она.
Я увидел на ее заднице два комариных укуса, притянул ее за волосы и крепко ухватил за задницу. Ту самую, на которую она так жаловалась, говорила, что она у нее слишком жирная и что она устала с этим бороться. Я развел в стороны две половинки и увидел комочки туалетной бумаги, величиной не больше крошек от печенья, вроде белых катышков на куске мяса.
Почему она так кричала? Или это кричали раненые, которых еще не увезли? Значит, перед смертью человек кричит? А если не кричит, то как он умирает? Возможно, Йозеф Капано знал ответ на эти вопросы, он много размышлял о смерти, он видел смерть повсюду, в каждом печеньице, в каждом коктейле, за каждым углом. Звуки перетекали друг в друга, как воспоминания.
Читать дальше