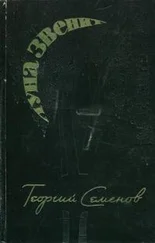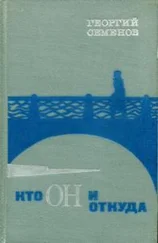— Прости, Сережа, — хлюпнув носом, сказал Демьян Николаевич с поспешностью. — Я ведь не хотел... Прости.
— Пороть вас всех надо! И тебя в первую очередь, старого дурака. На конюшне. Вытри слезы! Иди умойся — смотреть тошно! Ну, пошли, пошли. Умойся как следует, а я тебе рюмочку налью за это. Иди! — говорил Сергей Александрович, подталкивая друга.
Но когда вернулись женщины, он и виду не подал, что ему стала известна чужая тайна. Был весел и дурачился, как обычно развлекая всех. Когда же выпили за обедом по рюмочке теплого душистого коньяку, он даже подмигивал и строил глазки Татьяне Родионовне, как это делал всегда, всю жизнь, изображая из себя несчастного влюбленного. А Татьяна Родионовна тоже, как всегда, смущалась и розовела от удовольствия. И даже чуточку молодела, робко поглядывая на своего задумчивого и печального супруга.
Был ее муж неисправимым ревнивцем, и привычку эту не оставил и теперь. А Татьяна Родионовна привыкла тоже до сих пор бояться его мрачных упреков.
Теперь она поглядывала на мужа и, видя усталость и печаль в его опухших от слез и бессонницы глазах, пыталась ласковой и робкой улыбкой успокоить его, словно бы говорила ему взглядом: «Ты не волнуйся... Я ведь только тебя люблю, а с Сережей — это у нас игра такая... Ты же знаешь!»
Но все это ушло в прошлое, стремительно унеслось, как последний вагон товарного поезда, влекомый чудовищной силой. Все умчалось, и шум утих, и только смолистый запах кротко и нечаянно напомнил о грохочущей, лязгающей лавине металла, пролетевшей мимо тихого дачного местечка, мимо стандартной платформы с коричневой крашеной станцией и коричневыми перильцами.
А вспомнив таежный запах, можно было, закрыв глаза, легко представить себе скользящий по рельсам тупорылый болтающийся вагончик бурого цвета. И все тогда опять начиналось сызнова: запах распиленных сосен, ободранной сосновой коры, который, отстав от умчавшегося вихря, как будто бы оседал в затишье неведомой и невидимой пыльцой, щекоча нос и удивляя своей несовместимостью с бешеным порывом ветра и грохотом тяжеловесного состава.
Так и Дина Демьяновна, закрывая глаза, долго еще вспоминала с каким-то непроходящим удивлением и восторгом жаркое лето, пустыри новостроек, запахи нового бетонного дома и гул разогретой, расплавленной Москвы, бешеный ее ритм, бетонную ее поступь и рев горячих моторов, рвущихся на зеленый глаз светофора, визг тормозов, торопливый шаг людей, спешащих через улицы. Люди — через, машины — вдоль, — вдох и выдох улицы, блеск хрома, блеск улыбок, груды сизых голубей на скверах, тихие шаги по влажной земле и... радость...
И когда приходила радость, перед мысленным взором опять возникала стройная яблоня с зелеными яблочками, которые были еще легки и не отягощали ветвей, поднятых к небу. Яблочки крепко держались на ветвях, не боясь шквалистых, предгрозовых ветров, и были похожи на зеленые плоды шиповника, только что сбросившие лепестки. Лишь на припеке некоторые из них обметались глухой и поверхностной розовостью, но были кислее щавеля.
Под яблоней, в перекопанном круге, в сквозящей тени росли бобы, растопырив жирные листья. Демьян Николаевич сажал их под яблоней, чтобы их корни отдавали азот земле, и чудилось, будто растения эти с цветами, похожими на красивых ночных бабочек, трудились изо дня в день.
Тут же, неподалеку, в знойный день с беспечностью и с электрическим каким-то потрескиванием корежились в судороге почерневшие на солнце, сухие, ороговевшие стручки люпинусов, заряженные лакированными ядрышками, маленькими, темными фасолинками, которые разлетались вокруг, чтобы на будущую весну прорасти в пригретой земле новыми бархатистыми заячьими ушами, а летом подняться среди зелени лиловым и розовым дымом цветов, гудящих от пчел и шмелей. Над этим сиреневым островом светилась молодая изогнутая береза, свесив прозрачную ветвь над цветами, и темнела рядом могучая ель с подтеками засахарившейся смолы на сизом стволе.
Напротив же террасы, в густой траве, на лужайке цвела бледно-зеленая среди лета гортензия, которая лишь к осени становилась белой с розовым оттенком и бумажно-сухой.
Цветы ее всю зиму стояли в доме у Скворцовых.
Татьяна Родионовна тоже увозила в Москву несколько этих пышных гроздьев и ставила их в вазы, сохраняя до весны, до первых живых цветов.
Вспоминала об этом Дина Демьяновна с таким чувством, будто весь мир в то лето удивительным образом устроен был для нее лишь одной; будто все в этом мире расцвечивалось, озвучивалось, окраплялось запахами, умирало и создавалось заново только лишь для того, чтобы именно она, Простякова Дина Демьяновна, могла почувствовать, ощутить, увидеть и услышать все это бесконечное разнообразие мира и понять могла, как прекрасна жизнь во всех ее проявлениях. Мир с его звуками, красками и ароматами словно бы приглашал ее испытать все радости и все печали бытия, заманивал и соблазнял своими тайнами — и она не отказалась.
Читать дальше

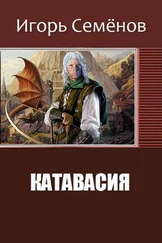
![Георгий Семёнов - Путешествие души [Журнальный вариант]](/books/73286/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)