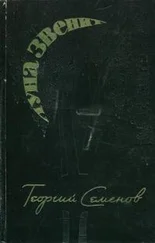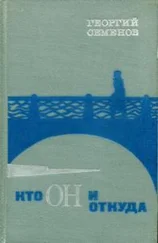— Завтра я обязательно позвоню в Москву,— говорила шепотом Марина Александровна, легонько похлопывая размякшую вдруг от слез девушку, которая хлюпала носом и никак не могла успокоиться.— В конце концов ничего еще пока не случилось,— говорила она, стараясь поверить в то, что говорила.— И вообще никогда слезы не помогали. Это — последнее дело... Ну уж совсем глупо плакать! Рассуди сама. У нас еще две недели впереди, и, может быть, Володька еще сумеет как-нибудь сорваться с занятий. Ты ж понимаешь, это почти невозможно. Я бы сама была рада.
— Ой, Марина Александровна,! — страстно, и с отчаянием в голосе прошептала Танечка.— Как мне стыдно перед вами! Если бы вы только знали...— и уткнулась в подушку лицом.
— Не придумывай себе вины. И не сходи с ума, пожалуйста.
А Танечка села вдруг на кровати и спросила с жалкой растерянностью:
— А что же мне делать-то? Я ведь и вас тоже очень люблю.
Марина Александровна поцеловала ее в мокрую и горячую щеку, погладила по жестким взбитым волосам («Это от лака они такие жесткие»,— подумала она невольно), поправила и перевернула на другую сторону подушку, уложила Танечку, а потом стала, словно баюкая, гладить ладошкой по ее жестким, пружинистым и неприятным на ощупь волосам.
«Не спрашивай меня ни о чем, Танечка,— мысленно говорила она ей.— Дела твои плохи, если такое взбрело в голову. Тебя можно понять. Ты готова на всё ради своей любви. Tы, конечно, вправе думать и чувствовать, что никто на свете не любил так сильно, как ты. А как же иначе! Ты только так и должна понимать свою любовь, девочка. Совсем недавно ты прекрасно знала, что и тебя так же сильно любит тот, кого ты сама полюбила. А теперь ты одинока. И никто на свете не может тебе помочь. Ты это тоже понимаешь. Все понимаешь! Но в тебе так силен инстинкт, что ты, все понимая, готова любой ценой вернуть Володьку. Ты, увы, понимаешь свое бессилие, а потому и плачешь. Слишком любишь его, господи! Растерялась теперь и не знаешь, что делать, и это самое страшное, потому что способна сейчас наделать множество глупостей и навредить себе. Кстати, и эта поездка со мной — тоже большая глупость. Зачем? Тебе бы хотелось, чтоб Володька служил сейчас в армии и писал тебе письма. Ты все рассчитала: его бы забрали в армию, когда он еще любил тебя. Ты готова отнять у парня мечту ради своей любви. Именно это и возмутило меня. И не в том дело, что он мой сын! К счастью, ты понимаешь, как это мерзко и отвратительно, а потому и плачешь... Никто не вправе осудить тебя за это, потому что раз ты так думаешь, то сама уже наказала себя, или, вернее, ты уже чувствуешь и понимаешь, что он больше не любит тебя, что ты несправедливо наказана этим его отчуждением. Очень хорошо, чтo ты все понимаешь! Я же могла в тебе ошибиться. Хотя мне было бы легче, если бы я ошиблась. Я бы сказала: «Ты недостойна была его люби». А теперь?»
Марина Александровна долго еще сидела на кровати, у нее озябли ноги, и сама она продрогла, но не ушла к себе, пока Танечка не уснула. А потом долго не могла согреться под одеялом, дрожала и мучилась в бессонице, которая вдруг навалилась на нее своею тьмою и бесконечностью.
«И все-таки она пошла бы на это, — думала Марина Александровна.— Если бы у нее спросила судьба: «Что бы ты хотела — остаться с любимым, лишив его мечты, или пожертвовать своим счастьем ради того, чтобы он достиг мечты?» Если бы так у нее спросила судьба, она предпочла бы все-таки первый вариант. Слишком долго и упоенно она высиживала свою любовь. В этом есть что-то неприятное: в терпеливом и настойчивом ожидании своего часа. Раньше я, увы, не замечала в ней этого. А сейчас что ж? Сейчас ее просто жалко. Все-таки славная девчонка, и я привыкла к ней. Жаль».
Она уснула на рассвете, когда за горами взошло солнце, и проспала до десяти часов. Танечка уже встала, была умытая и опухшая, но улыбалась как ни в чем не бывало.
— Я сейчас кофе заварю. Вы лежите, Марина Александровна. Я всё сделаю сама.
Удобренная земля в садике была темно-коричневая и душистая, и ростки больших каких-то цветов, сонные и водянисто-прозрачные, сильные, как шампиньоны, взламывали крупянистую корочку земли, прибитую дождем, лезли к свету, розовея в солнечных лучах, и малюсенькие их ветви, сжатые в розовые кулачки, вот-вот готовы были раскрыть свои ладони и зазеленеть. Воздух был тепл и пахуч, и весь Крым опять запорошен был голубой пыльцой, мягко раскинул свои старые горы, омытые дождем, расстелил зеленые долины, в которых расцветали остролистые алые дикие тюльпаны.
Читать дальше

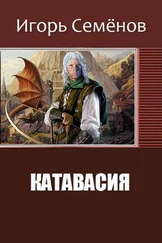
![Георгий Семёнов - Путешествие души [Журнальный вариант]](/books/73286/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)