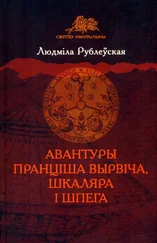— Vаde retro, satanas!
Дануся и Зося, милые приличные барышни и выпускницы Мариинской женской гимназии, сидели самым недостойным образом на голых мокрых камнях Кальварийского кладбища, причем Дануся держала над собой кружевной зонтик.
Мимо ошалевших девушек прошла маленькая сухонькая старушка в черном и удивила их победным издевательским хохотом. Габрусь — да Бог с ним, с Габрусем, — автомобиль марки «Лорен-Дитрих», сверкающий, как рождественская елка, и торжественный, как духовой оркестр, — оба исчезли бесследно...
«Sic transit gloria mundi» — так могла бы сказать панна Дануся, возвращаясь домой тем страшным осенним вечером. Могла бы, если бы имела за гимназический курс латыни оценку «отлично» или хотя бы «хорошо»... Но в графе «латинский язык» в Данусином аттестате стояло каллиграфическое «удовлетворительно». И Дануся не сказала ничего... Особенно папуле и мамуле, когда те вернулись из гостей...
На другой день пришло известие, что бедолага Габрусь действительно погиб в железнодорожной катастрофе в результате антиправительственной диверсии.
Но Дануся имела формы рубенсовских моделей, а Генусь из акцизного банка, хотя и не имел автомобиля, целиком доверял вкусу известного художника Рубенса.
Поэтому и нет в нашем повествовании ничего действительно ужасного, кроме того, что в городе М* сейчас очень много автомобилей и практически нет настолько преданных женихов.
Никто не знает, как выбирает женщина.
Гипархия смотрит на алый, неестественно большой диск солнца, который опускается над морем под тяжестью своей жаркой усталости.
Она все еще красива — темноглазая, с необычайно белой нежной кожей, которую не смогли обветрить тысячи ветров, женщина-философ...
(Как она ненавидела свою женственность! Сколько снисходительности в этом добавлении — “женщина-поэт”, “женщина-ученый”, “женщина-политик”...)
Темные кипарисы на фоне вечернего неба — как воплощенный принцип автарксии — самодостаточности личности. Гипархия тоже старается не двигаться, словно боится разбудить того, чья голова на ее коленях.
Он часто засыпал на ее коленях... Но это — в последний раз.
Кратет Фиванский, знаменитый философ-киник... (благословенно время, когда философы — знамениты!). Когда-то самый богатый человек в городе, он роздал свое богатство, сбросил его с себя, как цепи — пусть золотые, они не более, чем символ рабства…
Безупречный мудрец. “Тот, кто отворяет все двери” , — он приходил в каждую семью, в каждый дом — лачугу или дворец, где нуждались в слове согласия и мудрости...
Непреклонный киник, который спал на камнях и выбросил даже глиняную чашу, увидев, как мальчик черпает из ручья ладонью...
Но одна слабость у него была. Гипархия знает это наверняка. Потому что слабостью Кратета Фиванского была она, белокожая Гипархия...
На темный, бугристый, покрытый морщинами лоб покойника садится блестящая зеленая муха. Она ползет к носу в старческих фиолетовых прожилках. Гипархия отгоняет бесстыдную вестницу смерти.
Да, он никогда не был красавцем. Сказать правду — он был просто уродливым горбатым и хромым стариком в грязных лохмотьях... А она, непобедимая в своей юной красе, требовала:
— Возьми меня! Я буду твоей женой, Кратет! Или уйду из жизни!
За спиной причитали ее родители. Брат Метрокл, изнеженный, завитый барашком мальчик, наблюдал со стороны с брезгливым интересом ( увидал бы Метрокл тогда себя сегодняшнего — обросшего, исхудавшего и с истинной философской отрешенностью на лице). В дверях толпились граждане города, ученики Кратета, противники Кратета...
Он, Кратет, и сам пытался ее отговорить... Но она видела его глаза!
Наконец, почти обессиленный борьбою с тем, с чем бороться не хотел, он сорвал с себя лохмотья:
— Смотри, Гипархия! Вот твой будущий муж и все, что он имеет!
И тогда, под десятками любопытных взглядов, она сбросила, стоптала себе под ноги тонкий надушенный хитон... И как последний довод — на смятую ткань упали ее браслеты и серьги.
Она выбрала.
Прекрасная Леда, безжалостно ломая тростник, который был когда-то прекрасной нимфой Сирингой, сбегает к сияющему лебедю... Европа ласкает тонкой смуглой рукой могучую спину белого быка... Даная ловит ладонями трепетные струи золотого дождя... И все они выбирают одного и того же бога. Все женщины выбирают одного — во многих, многих неисчислимых обличиях...
Алый диск касается границы, что разделяет море и небо. И каждая волна несет к берегу частичку теплого багрянца — словно осыпаются розы и колышутся-плывут лепестки.
Читать дальше