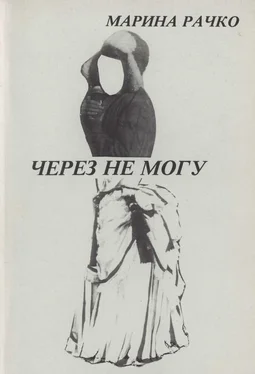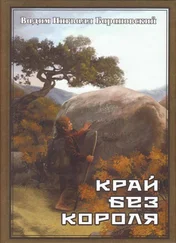Кстати, Ник, а вы вообще знаете слово «барахолка»? Это «блошиный рынок». Только в вашем выражении игра смысловая, а в нашем — лингвистическая, с прелестным, многозначным, в этом случае пренебрежительно–собирательным окончанием «ка» (которому вообще–то положено быть уменьшительным, но с которым даже слово «ночь», превращаясь в «ночку», не делается короче, а приобретает лихой, разбойный оттенок). Только не уличайте меня, пожалуйста, в лингвистическом невежестве — я ведь Пи Эйч Ди не прошу.
Позже, когда слово «барахолка» исчезло из обихода (вместе с последней возможностью свободной купли–продажи), народ много экспериментировал с этим окончанием «ка» — почти всегда иронично. Например, недозволенная властью деятельность, произведения искусств, книги и вообще запретные плоды — получили широко распространившееся название «запрещенка»; студенты–медики называли занятия по анатомии «расчлененкой» (хотя на мой вкус это уже изощренка), а смерть, вечную разлуку и эмиграцию — должно быть, с намеком на причастность Запада — стали называть неверморкой — от never more.
Значит, война…
Мы жили (чуть не написала «тогда», а на самом деле «всегда») на Разъезжей улице в огромной квартире, которая до революции принадлежала бабушкиным родителям (т. е. нашей с вами общей прабабке и моему прадеду) Юлии и Галактиону Ш.
Я родилась, как принято у людей моего поколения, в 1937-ом, и к тому времени квартира давным–давно была коммунальной. Так что, например, залу с мраморным камином, мелькавшую без конца в рассказах родственников, я впервые увидела лет в двенадцать, когда мне пришлось провести врача к больной соседке. Обычно у этих соседей никто не бывал — там муж был мизантроп. Уж не помню, жулик он был или партиец, что так оберегал свой внутренний мир, но только на стук он никогда не кричал, как другие: «Войдите!», а каждый раз бесшумно появлялся сам и быстро прикрывал за спиной дверь. Оба они были тонные, немножко путали аристократизм с чванством, и их подчеркнутая вежливость доходила до того, что они все называли полными именами: «Валентин, захвати из кухни картофель»; «Серафима, не забудь сервировать сельдь»…
До оказии с врачом я представляла залу только по предновогодним бабушкиным воспоминаниям: распахнутые белые двери, мерцающая ель вдали и толпа детей (шестеро своих и гости) с бабушкой впереди с разбегу летит из гостиной, как по катку, по скользкому паркету через весь сорокаметровый простор… И чисто, пахнет воском с мандаринами, наступает новый 1900‑й год, и на платяном шкафу в прихожей плохо припрятана гигантская круглая коробка от «Норда».
«Воронью слободку» моего времени, даже если представить ее отдельной квартирой, трудно было назвать роскошной или уютной, но в ней осталось какое–то, знаете, обаяние, общее для многих больших, темноватых петербургских квартир. Высокие окна на север, на крытую диабазом Разъезжую; планировка, такая неожиданная, словно архитектор сам не знал, на что наткнется за углом. По длинному коленчатому коридору можно было бы пустить автобус и даже сделать пару остановок. Последний его поворот выводил на кухню размером с самолетный ангар, которую освещало только одно окно — в Достоевский двор. За кухней еще шла «людская» со ступенькой. Темная «вторая прихожая» — с лепниной и белой кафельной печью — была когда–то столовой. От нее фанерной стенкой отгородили часть с окнами и сделали отдельной комнатой. Там жила прабабушка Юля, которая вовремя, перед войной, умерла.
Ну и все в таком же духе: застекленные книжные шкафы с изданиями 1890‑х годов, дубовый Нотр — Дам с очертаниями Нотр — Дама настоящего, корниловский сервиз…
С балкона в нашей комнате (бывшей гостиной) были видны Пять углов — перекресток Разъезжей, Загородного и Троицкой — и старинный дом–утюг. Его башенка, похожая на кронверк Петропавловки, украшала закатное небо. В квартире жили семейные истории и призрак «брата Жени», мистификатора и художника, умершего молодым от туберкулеза.
Мировые катастрофы бабушка принимала бодро. Она, по–моему, жила не разумом и даже не чувством, а инстинктом и поэтому довольно легко управлялась с иррациональным. После революции действия новых властей нельзя было предугадать, их можно было только унюхать, и это было по ней. Скажем, когда стали конфисковать золото и серебро… Нет, нет, в том–то и дело… Бабушка бросилась действовать не тогда, когда начали конфисковать, а когда «пошел слух», что начнут! Люди рациональные этому слуху не верили: ну, отберут настоящие драгоценности у настоящих богачей, но не столовые же ложки… Бабушка, без колебаний и сожалений, в два дня, снесла все, что можно, в Торгсин, мелочи спрятала в надежное место, а назавтра пришли отбирать столовые ложки.
Читать дальше