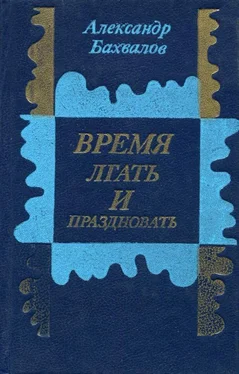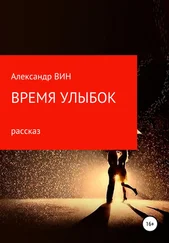Спускаясь на пляж привычной дорогой, с небрежностью заправской курортницы — в чем тоже сказывалось пренебрежение к нему, — постукивая деревянными подошвами босоножек по наклонным тропинкам, то и дело перемежающимся двумя-тремя каменными ступенями, всем телом осязая истекающий от моря пахучий холодок, она вдруг обрадованно уловила сыпучий шум за шелестом парковой листвы и будто очнулась, обнаружив себя за тридевять земель, в Крыму!..
«Море шумит!..»
Вот оно, все ближе! Все сильнее ни с чем не сравнимый запах сверкающей на солнце кипени волн! Еще несколько шагов, и видно, как пробегает последние метры изумрудная толща — пробежала, рухнула вся разом и с мягким рокотом разостлала вдоль берега шипучие кружева!..
Запах моря теснит запахи парка, сладковатый запах пыли исхоженных тропинок, а шум прибоя заглушает хрусткий звук шагов по гальке, музыку транзисторов и голоса купальщиков.
У самой воды, вся в грохоте и утреннем аромате волн, Юля немного постояла, вглядываясь в неуемно подвижную прозелень валов, в живое бугристое бесконечное пространство, и детская манящая мысль — что там, далеко-далеко, за морем? — сменяется тоской по несбывшейся радости. Обернувшись, она с той же обидой незаслуженно обманутой долго смотрит на вздыбленную к небесам и по-небесному чистую пепельно-сизую вершину Ай-Петри.
«Так и проживу в этой Алупке, как тюлень!..» — опускает она глаза на распластанных купальщиков, на Нерецкого, который один лежит одетым, с закинутыми за голову руками. Он и спит точно так же: ляжет на спину и затихает, вроде и не дышит — не разберешь, то ли закрыл глаза, чтобы молчать и никого не видеть, то ли в самом деле спит.
«В доме отдыха и то, наверное, веселее». Опустившись на плоский камень, слегка, на исходе бега заливаемый волнами, Юля застывает на корточках, подоткнув сарафан под колени, встречая горсткой приливающую воду.
«И там ничего нет», — думает она о скрытом за горизонтом и обо всем том, что в Юргороде было «там» и стало «здесь». Что е́сть не лучше того, что было… Так называемая любовь — гадость, уродство! И растянется на целый месяц. «И зачем я позвонила ему?.. Нашла выход!..»
Часть пляжа свободна от купальщиков — та, что еще в тени. Пустынная россыпь камней между пеной прибоя и зеленью берега — как полоса отчуждения между стихиями. Юля неотрывно смотрит на безлюдный берег, и ей кажется, что на душе у нее так же серо и пусто. И еще напорчено.
Сколько ни воображай себя взрослой, сколько ни приводи тому доказательств, чувство обиды остается детским. Она жалела себя, как обиженный ребенок, и плакала, как ребенок.
Разрастаясь до грохота, шум воды распугивает мысли. А когда стихает, сразу и не вспомнить, те же вернулись, другие ли подступили…
«Я думал о том, что она нынче не в духах… Недовольство крутобокой дочери Ларисы Константиновны было убедительно обосновано, а сия распрекрасная дева на что куксится?.. В намерении наставить рога бородатому художнику она как будто преуспела, чего же ей недостает?.. Или рядом нет художника и потому удовольствие неполно?.. Как отравительнице собак, о которой говорил Курослеп, ей мало подсыпать яду в душу бородачу, нужно еще и агонию видеть…»
«Впрочем, все мы чтим злобу паче благостыни… И на мне та же печать. И я — как все… В не очень давние годы подобных Ивану хоть и называли «позором семьи», от них не отрекались. Несли свой крест. Зато в наши достославные времена кем бы ни приходился тебе человек, вынуждающий поступаться душевным комфортом, — никто не помешает вытолкать его за порог и остаться в убеждении, что из вас двоих скотина не ты.
«Красота спасет мир». Никого она не спасет, если души людей не способны воспринимать красоту… Сколько долгих вечеров мать прививала мне «неспособность безболезненно подличать» — скромную и как будто вполне достижимую добродетель! Увы. И книги Толстого не помогли… Род приходит, род уходит, а скоты пребывают вовеки».
Неведомо кем пущенное в обиход выражение «не способен безболезненно подличать» (иногда с дополнением: «предает сострадая») сделалось модным в лексиконе старшеклассников и преподносилось как формула проходного балла, оценка нравственности для аттестата зрелости. Разумелось, что с такой пометкой выпускник вправе причислять себя к интеллигентам новейшей формации. Докатившееся до слуха матери выражение запомнилось ей не глумливым определением уровня порядочности нынешних «идущих в жизнь» (в школе пускали в обиход и не такое, незрелые умы крикливы), а подтверждением ее собственных представлений об их душевном багаже. «Самое ужасное в них — отсутствие потребности отличать добро от зла, что в не очень далеком прошлом было непременным мерилом человечности… Умственно неквалифицированны, чувственно нечистоплотны, они словно тренируют себя, упражняясь в низменном, опошляясь, с легкостью прибегая к любому бесчестью, точно задались целью утвердиться в способности к подлости, чтобы однажды поразить мир гнусностью. Откуда это в них, кому это нужно?..»
Читать дальше