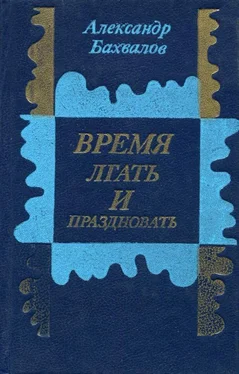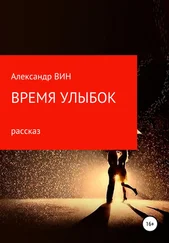В середине второго дня они приехали в Алупку, сняли комнату в домике на окраине и могли забыть о дорожных неприятностях, как и о мокнущем под дождями Юргороде и пережитых в нем бедах.
Начались новые утра, дни, ночи, но Юля никак не могла свыкнуться, никак не могла обрадоваться тому, что с ней происходит. Как будто кинулась в клокочущую горную речку, не имея о ней никакого представления, и теперь едва хватало сил, чтобы кое-как держаться на поверхности. Она не только не находила, чему радоваться, но и — чувство, которое противостояло бы тревожному сознанию, что она — пошлый персонаж пошлой истории, третьестепенное действующее лицо шведского кинофильма. Вопреки всем ожиданиям, то, что происходило с ней, не нуждалось ни в каком возвышенном душевном настрое. Она была вовлечена в действо, которого не понимала, но к которому должна была приспособиться.
«Господи, что я делаю?» — спрашивала она себя, просыпаясь по утрам.
Как все вокруг, новые дни были чужими, все казалось, вот-вот что-нибудь случится: она затеряется в тесном лабиринте улочек, в суматошных людских толпах, для которых, насколько она понимала, все курортные удовольствия состояли из утреннего лежания на пляже под Черным бугром, дневного хождения по магазинам и вечернего шатания по злачным местам, где всякий «выдрючивается», как хочет, словно у себя дома на заднем дворе. В Юргороде тоже бродят балдежники, но там над ними смеются, их порицают, а тут все приезжие, все посторонние, все бездельничают, тут можно распускаться без оглядки на окрик. В первый же день Юлю до смерти напугала какая-то рыжая красномордая тетка: преградив выход из общественной уборной и назвавшись «Катей с Киева», она сначала предложила купить «стрекозиные» очки. Услыхав, что очки не нужны, стала теснить Юлю тугим животом, требуя «рубель». Никаких денег у нее не было, и озверевшая тетка поднесла к лицу Юли два растопыренных пальца и матерно обозвала. Еще день спустя, ожидая на скамье у кинотеатра Нерецкого с билетами, Юля не сразу поняла, отчего похохатывают две расхристанные девы, дымящие длинными сигаретами, а их веселило то, что рядом с ними мочился пьяный парень, покачиваясь, держась рукой за одну из них. Неделю спустя Юля опять наткнулась на эту троицу, расположившуюся в конце пляжа, среди ярких магазинных пакетов и пустых бутылок. Парень лежал навзничь между девами. Голова одной из них, длинноволосой, моталась вверх и вниз у его толстого приподнятого колена, вторая сидела спиной к ним, опираясь на запрокинутые назад руки и по-идиотски улыбалась проходившей мимо Юле, как бы приглашая посмеяться над «шалунами».
Чувство заброшенной в нечистую праздность множества незнакомых людей подавляло всякую способность видеть что-то еще, те же красоты природы. Да и как было увидеть, если она не могла расслабиться, отвлечься. Одно бросалось в глаза: очень уж исхожена, исшаркана эта земля. «Замусолена», — говорил Нерецкой. Юля согласно кивала. Она плохо спала. Кажется, и ночью ее не покидало изматывающее ощущение пустоты под ногами. Она совсем терялась, не будучи рядом с Нередким, не ощущая тяжести руки у себя на плече, своих пальцев в его ладонях. К сознанию кое-как пробивалось лишь то из внешнего мира, на что они смотрели вдвоем. Не видя его какое-то время, не прикасаясь к нему, не слыша запаха его рубашки, она изнемогала от панического страха, болезненной слабости, уже знакомой по долгим часам ожидания на вокзале в С. Эта мучительная потерянность брошенной собаки наваливалась на нее по десяти раз на дню и не оставляла, пока он не оказывался рядом и до него можно было дотронуться.
Но и он настораживал странной какой-то неразговорчивостью, необщительностью, невольно вызывая подозрение, что он разочарован, жалеет, что связался с ней — вон сколько на пляже других женщин, таких привлекательных, таких породистых и часто в таких купальниках, что не сразу и разглядишь. Одна из них — полная, по-лошадиному большая, с черными мазками усиков над уголками густо накрашенного рта, красного, как внутри новой калоши, — ухитрялась несколько дней подряд устраиваться на виду у Нерецкого. Сопровождавший ее тонконогий коротышка с обожженными плечами и розовой лужицей плеши на нестриженой голове вовсю старался заинтересовать ее жалобами на нынешнее «отдельноквартирное поколение», на непутевого сына «от параллельного брака», а она не сводила глаз с Нерецкого или вслед за ним шла купаться — в самый разгар рассуждений коротышки, словно он не человек, а репродуктор. «Ей не до него, она очаровывает!.. На себя бы поглядела — стопудовая бабища с картины Рубенса».
Читать дальше