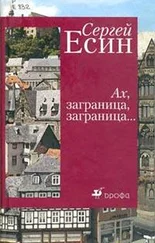Размечтался я перед портретом своей жены. Нет, не благородные у меня были мысли. Но они мои. Что же мне перед собою рядиться? Дума моя только об одном: «Русские реалисты» должны достаться мне, и только мне. Здесь я буду безжалостен. Я как полководец, считаю и свои резервы и силы противника. Я все должен учесть: и моральный дух войска, и географию. Надо все знать, чтобы ненароком конница во время атаки не скатилась в овраг. Теперь, когда я выхожу на стартовый отрезок своего марафона, когда бегу мимо во все глаза следящих за мной трибун, надо как следует просмотреть все личные дела. Из-за мелочи счастливая случайность не должна уйти. Действительно, руководить, как говорилось, – это предвидеть. А уж коли сам я с младых ногтей конструирую собственную жизнь, то надо каждую тряпочку из прошлого перетряхнуть, ко всему быть готовым, так дело вести, чтобы прошлое не зацепило грядущее. А баланс не очень хорош. Есть прорехи в тылах.
В тот же день, когда Иван Матвеевич позвонил насчет «Реалистов», я зашел в комнату Маши. Здесь, может быть, слабое место. Дочь беспокоит меня больше всего. С Сусанной я справлюсь, потому что на ее хитрость есть моя. На прямоту и откровенность Маши нет управы, нет приема. А решать надо, и решать быстро, потому что без Маши я не получу Славы. Она его профессор и наставник.
Какая же была ошибка, что я помешал их браку! Как это было недальновидно, мелочно и, сознайся, Семираев, неумно. Разве волновало когда-нибудь тебя маленькое тщеславие, маленькие пакости, крошечное честолюбие. Ты же боец на ринге: что тебе несколько пропущенных ударов, пара оплеух – важно пройти через все и победить. Важны овации зала и твоя рука с поднятой победной перчаткой. Испугался талантливого мальчишки. Но ведь один раз, когда оставил его в своей институтской мастерской, превозмог себя. Справился с мелочевкой характера, поддался просьбе дочери, ее нажиму, и ведь был доволен, сколько принес потом Слава пользы на курсе. А здесь взыграло ретивое. Просто струсил, Семираев, иметь возле себя, иметь в семье бледнеющего от волнения соперника. Да ведь ты сам говорил, что от возможности до действительности дистанция огромная. Он только талантливый мальчишка, для которого пробиться труднее, чем для тебя в его годы, потому что ты кроме верной руки и снайперского глаза имел еще и хитроумную, изворотливую голову. А что он? Тюха и гордец. Мальчик хотел жениться на твоей дочери. Вернее, даже по-другому: твоя дочь хотела выйти замуж за этого мальчика. За него и ни за кого другого. Она первая, наверное, поняла, учуяла, что он перспективный. Ведь Маша все же твоя дочь. А у нее чутье. А ты закрутил, завертел: а где будете жить? а что будете есть? Поставил гнусное условие: Слава сдаст мать в больницу для хроников. Всех хотел приобщить к своим грехам, всех сравнять.
Жить в одной комнате со своей больной матерью и молодой женой Слава не захотел. Он, видите ли, не мог себе этого позволить. Не мог позволить себе портить жизнь жене. Мне бы купить им трехкомнатную кооперативную квартиру, помочь, наладить лечение для этой женщины, матери Славы, да они бы все по гроб были мне обязаны. Стали бы рабами навсегда. Обеднел бы я, пошел с сумою по миру? Как мы любим ссылаться на свой горький и никчемный опыт: «Я приехал в Москву в одних портках, и никто кооператива мне не покупал!» И тогда Маша сказала: «Я буду ждать Славу». Я сказал: «До каких пор будешь ждать? Пока не останешься в старых девах?» – «Сколько будет нужно, столько и буду ждать». – «Тургенева ты, дочка, начиталась. Устарел твой Тургенев. Сейчас все читают Юлиана Семенова». – «А я Тургенева читаю». Сказала – сделала. Но ведь и работать бросила.
Я не люблю входить в комнату Маши. После смерти матери она перетащила к себе все принадлежавшие той вещи. Нельзя сказать, что в комнате нет порядка, просто порядок, ведомый одной дочери. Она ничего не выбрасывает. Вся ее жизнь может быть описана через хранящиеся здесь предметы. Первая ее кукла, школьный портфель, первая маленькая палитра, на стенах ее детские акварели, большая палитра, которую она забрала из мастерской и перенесла к себе. Краски ссохлись, закаменели. В комнате стоит мольберт. На нем, уже два года, незаконченный Машин автопортрет. Прописано пол-лица. Один глаз черным буравом неотступно преследует входящего. Другая половина лица лишь намечена. Может быть, видимая половина моя?.. Здесь я знаю характер, потому что я знаю себя, знаю самое плохое. Чем же ты, Мария-старшая, наградила дочь?
Читать дальше