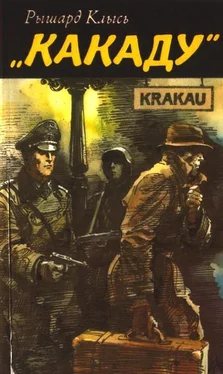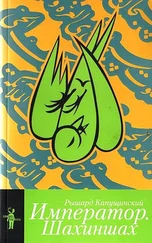— Это не имеет никакого значения.
— Вы полагаете, один-два года в жизни человека ничего не значат?
— Этого я не говорил.
Майор рассмеялся:
— Все это очень смешно.
— Что именно?
— Вся ситуация в целом, наша необыкновенная встреча, наконец, путешествие в этом купе. Ведь правда смешно?
— Как кому.
— Мы скоро расстанемся.
— Наверно.
— Вы выходите в Кракове?
— Не знаю.
— Как, вы не знаете, куда едете?
— Знаю только, куда хотел бы приехать. А это не одно и то же.
Майор молча кивнул, потом как-то неопределенно махнул рукой — смысл этого жеста я не уловил, — снова закурил и, секунду подумав, спросил:
— Зачем вы все это делаете? Пожалуйста, ответьте мне…
Движением головы он указал на чемодан, лежавший на полке, и мне почудилось, что на лице его появилось выражение мучительного раздумья; он слегка наклонился в мою сторону, и на его гладком неподвижном лбу собрались поперечные морщины, однако в тот момент меня интересовали только его руки, белые, холеные руки, в которых чувствовалась скрытая сила. Глядя на них, я потянулся к шарфу, снял его с шеи и расстегнул пальто: мне неожиданно стало очень жарко.
— Итак?
— А зачем вы носите этот мундир, майор? — спросил я его со злостью. — И что вы ищете в этой стране?
— Идет война. Это, вероятно, все объясняет?
— Да. Идет война. Существует фронт. А мы — враги!
Лицо его сделалось серьезным, он непроизвольно откинулся назад и, опершись спиною о мягкую подушку дивана, задумчиво взглянул на огонек горящей сигареты; потом произнес со смирением, тоном, в котором чувствовалась тоска:
— И все равно это не имеет никакого смысла. То, что вы делаете, не имеет смысла. Вы должны в конце концов понять, что в открытой борьбе с нами у вас нет никаких шансов. Вам нужно ждать. И только ждать. Самый лучший ваш союзник — время. Вы, так же как и я, наверно, прекрасно понимаете, что теперь уже ждать осталось недолго. А подвергать себя опасности в канун освобождения просто нелепо.
— Мы оба в одинаковом положении. Смерть в равной мере угрожает как мне, так и вам, майор.
— Между нами все же есть некоторое различие.
— Можете об этом не напоминать. Мне это хорошо известно. Различие, о котором вы говорите, я не раз испытывал на себе, и к тому же весьма ощутимо. Уже сам факт, что я вынужден ехать в вагоне, снабженном надписью «Nur für Deutsche», достаточно унизителен, и, если б меня не привело в это купе особое стечение обстоятельств, я бы, вероятнее всего, отказался от сомнительного удовольствия ехать в вашем обществе.
Он медленно покачал головой и еще раз окинул меня внимательным взглядом, остановившимся в конце концов на дуле пистолета, который я по-прежнему не выпускал из рук.
— Вы меня не поняли, — спокойно произнес он монотонным голосом. — Говоря о существующих между нами различиях, я имел в виду совершенно другое. Я не шовинист и признаю право на независимость любого, даже самого маленького, государства. Каждого народа. Войну я рассматриваю как страшный катаклизм, по отношению к которому чувствую себя совершенно беззащитным. Я ни в чем не могу ему противодействовать. Меня заставили надеть этот мундир и сунули в руки оружие, а потом отправили сюда. Моего мнения никто никогда не спрашивал. Никто не считался с моими взглядами, и я даже не пытался притворяться, что меня хоть в какой-то мере волнуют проблемы войны, чуждые моим глубочайшим убеждениям. И вот я живу, наблюдаю и со дня на день жду конца войны, которая мне всегда была настолько чужда, что я даже как бы вовсе не принимал в ней участия, за исключением, разумеется, тех случаев, когда мне приходилось стрелять, защищая собственную жизнь, если она оказывалась под угрозой.
— Зачем вы мне об этом говорите?
— О, не пугайтесь. У меня вовсе нет намерения исповедоваться перед вами.
— Догадываюсь.
— Так вот, короче говоря, я хотел лишь сказать вам, что всегда был против войны, но это не значит, что мне удалось полностью выключиться из орбиты ее жестоких и абсурдных проблем.
— Это досадно.
Он поднял голову, рассмеялся и с горечью, тихо сказал:
— Вы насмехаетесь надо мной. Кажется, вы ничего не понимаете.
— Может быть!
— Почему вы уклоняетесь от разговора со мной? — спросил он серьезно. — А вдруг это может быть любопытно? В нашем положении можно позволить себе быть искренними. Что касается меня, то мне нет надобности скрывать свои взгляды.
Я не знал, что ответить, предпочитая не признаваться, что этот разговор чрезвычайно раздражает меня, рассеивает внимание и мысли, а в тот момент я больше всего нуждался в тишине и покое, нужно было собрать все силы, чтобы преодолеть этот путь, на котором ждали нас еще две остановки, не считая конечной станции. Давала о себе знать и огромная усталость после недавних испытаний; в тепле хорошо обогреваемого купе меня стала одолевать вялость, смертельно клонило в сон, а время от времени охватывало чувство отрешенности и апатии — ведь я совсем один и никто мне не поможет, чувство полного одиночества угнетало меня, и я с трудом скрывал, что со мной на самом деле творится, меня удерживали лишь стыд и опасение выглядеть слабее противника, который, казалось, только и ждал, когда я каким-нибудь неосмотрительным жестом выдам истинное состояние своих нервов, любая неосторожность могла меня погубить, и мне ничего не оставалось, как по-прежнему создавать видимость, что я хозяин положения и только сознание собственного преимущества позволяет мне идти на небольшие уступки.
Читать дальше