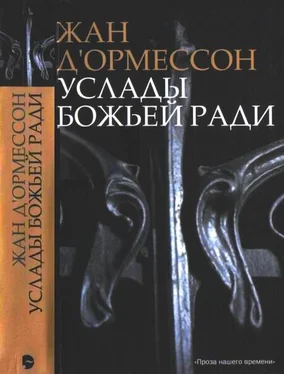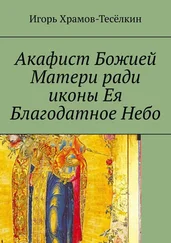Над нашими головами грянул гром. Юбер!.. Я рассказывал вам о Юбере? Это был чудный мальчик с круглыми щеками и немного удивленным взглядом. Скорее юноша, но сейчас, когда он так страдал, он представлялся нам беззащитным малышом. Разве в наше время, после такого прогресса, может случиться так, что дети заболевают и умирают? Что вы! На всякий случай я пошел на почту и предупредил всех. Позвонил Клоду, в Париж. Он тут же приехал. Послал телеграмму Анне-Марии в Лос-Анджелес: «Юбер болен. Приезжай, если можешь. Скорее. Целую». И подписал: «Дядя Жан». На следующий день она уже была с нами. Юберу между тем становилось все хуже.
Не знаю, видели ли вы в своем доме или где-нибудь еще умирающего ребенка. Очень не желаю вам этого. Смерть любимого человека — всегда горе. Но она находится в рамках правил этого мира, о котором всем известно, что он жесток. А смерть ребенка — это несправедливость, это — ужас, доведенный до абсурда. Чудовищный, возмутительный, невероятный, нарушающий все правила. Бог не имеет права менять свои законы и допускать, чтобы молодые умирали на глазах стариков. Можно подумать, что Юбер ждал, когда соберутся все, чтобы в последний раз доказать, что он — наш. Склоняясь над его кроваткой, мы делали вид, что улыбаемся. А его трясло, как в лихорадке, но он даже уже не жаловался: жар, боль, тошнота довели его до того, что он как бы уже находился в состоянии благодати, где страдание и страх сами приглушают друг друга и смягчаются. Он смотрел на нас ласково, с безмолвным доверием и вопросом в глазах. В его взгляде мы читали упрек: почему мы допускали такие мучения? Почему отпускали его от себя? Нет, даже не упрек был в его взгляде. Это было хуже чем упрек: смирение. Он уже не боролся. Ему было слишком больно. Он хотел, чтобы все это кончилось и чтобы его отпустили, позволили уйти. А может, одновременно все еще надеялся, что мы его удержим? Временами ему казалось, что можно все-таки будет остаться живым и не страдать. И тогда он улыбался, чтобы сказать, что доверяет нам, и чтобы успокоить нас. Но боль возвращалась, возвращалась пытка, накатывались волны страдания. И тогда он закрывал глаза.
Временами Юбер спрашивал что-нибудь душераздирающе слабым голосом: здесь ли кузина Анна-Мария, которую он обожал, не спала ли температура? Мы отвечали тихим голосом, стараясь выглядеть как можно более спокойными. И даже изображали улыбку. Элен выходила из спальни, чтобы тихо поплакать в объятиях Клода или у меня на груди. Несколько раз мне тоже приходилось сдерживать слезы. Я видел, как дрожали губы у деда, когда он смотрел на мальчика. Он опирался на нас, потому что внезапно одряхлел от страданий ребенка. Трапезы наши проходили в мрачном молчании, а вечера — в ожидании. Дед повторял, что после девяноста лет честной жизни не заслужил такого: видеть, как умирает сын, и сын сына, и сын внука. Говорил, что даже собственная фамилия, — удивительная фраза, которая при других обстоятельствах рассмешила бы нас, — даже собственная фамилия больше его не радует. Что могли мы ему ответить? По вечерам, прежде чем лечь и по очереди делать вид, что спим, мы молились. Вместе с нами на колени вставали Клод и Натали и молили о ребенке немого, жестокого Бога, в которого они не верили.
Однажды утром, через два или три дня, Юбер почувствовал себя немного лучше. Мы вздохнули с облегчением. Мы смогли что-то поесть, поспать часок-другой. У нас появилась надежда, что мы сможем спасти мальчика. Как? Вот этого мы еще не знали. Но надеялись спасти. Ведь ему уже стало лучше. Так что мы опять зря всполошились. Ну и напугал же он нас! Теперь все нам казалось незначительным и легким. Только одна вещь в мире имела значение: жизнь ребенка. Мы звонили в Ле-Ман, в Анже, в Рен. Да, да, новости хорошие. Врачи собирались опять приехать завтра. Говорили о том, что если общее состояние позволит, то можно будет сделать операцию: чревосечение. Молодой настоятель и доктор из Русеты обедали у нас. Мы пили кофе, когда вбежала Элен и сказала сдавленным голосом, что ребенку стало плохо.
Мы все бросились по лестнице наверх с тревогой в сердце и одной лишь мыслью в голове: ребенку стало плохо. Перед тем как войти в спальню, мы остановились и перевели дух, чтобы выглядеть спокойными. С первого же взгляда стало ясно: Юбер умирал. Лицо его покрылось потом, щеки ввалились, нос заострился, отчего походил теперь на дедушкин. Мы все собрались в комнате. Не понимаю как, но весть об этом мгновенно обежала замок: старая Эстель и маленький Жюль уже стояли в дверях. Мы столпились вокруг кровати, окружая врача и священника. Врач был уже не нужен. Он немного посторонился, уступив место настоятелю. Священник взял мальчика за руки и, наклонившись, почти касаясь его лицом, спросил: «Ты меня слышишь, Юбер? Ты меня слышишь?» Юбер открыл глаза. Да, он слышал. Тогда настоятель стал вместе с нами читать над ним отходную молитву.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу