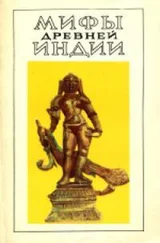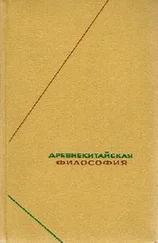Автор Неизвестен - Ayens 23
Здесь есть возможность читать онлайн «Автор Неизвестен - Ayens 23» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Ayens 23
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Ayens 23: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Ayens 23»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Ayens 23 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Ayens 23», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
— Наверно, — что-то в этот раз мое безразличие не сработало — да, Лена, да. Так бывает.
— Как это хорошо, Завадский! Пусть не у меня, но где-то так бывает, значит, жить стоит, быть может, когда-то… — она открыла вторую банку. За окном сумеречная улица текла в русле мерцающих огней. Город, который продолжался всегда, и тем был сильнее любого человека, и понимал без слов, и щедро поил собою. Впервые, наверно, я никуда не спешил. Отключил сотик.
— Но даже если и нет, — продолжала она, и тревожно блестели в уличных бликах золотистые, совсем не отцовские, заметил я, глаза, — даже если и нет, все равно я люблю эту fuckin' life, Завадский, за то, что она может еще сотворить чудо.
А я, я тоже люблю эту fuckin' life, выражаясь языком амбициозных наркоманов, которые в приступах ярости и безденежья теребят струны. Люблю, черт возьми, со всеми ее непонятками, и за то, что я в ней — такой, и все, что со мною, рядом, в этой жизни… О, черт, я ведь никогда не признавался этой жизни, что, действительно, люблю ее, а в ней вечную безоговорочную ночь, созвездие дорог, спешку затемно, и все, что ждет меня, и все, что мы минуем. И мое безразличие, то, что было со мною и прошло, уже никогда не вернется, почему оно уходит так, так, ТАК, — что хочется переживать о нем, болеть им и терять снова и снова только ради этой точки потери.
В груди заныло, я поискал в холодильнике чего-то покрепче: beefeater на донышке, я боялся, что она знает, что творит чудо со мною, и ощущал что-то непонятное, уже понимая, что это что-то неминуемо обратится в счастье — в точке потери, конечно.
— Я встретила тебя. Увидела в клубе, ты был потрясающе чужой в том дыму, как в жизни, и при этом не сомневался — ты, я поняла, был именно тем сильным человеком, который, зная все слова, знал и об их несовершенстве. Раньше, в конторе, я видела тебя не раз, о многом догадывалась. У меня есть дурная привычка интересоваться делами отца, ну, ты понимаешь…
И, может быть, ты права, дорогая Лена, догадываясь и примеривая, и, может быть, я даже понимаю, так что ж?..
Думалось о разном: о вечном, о тоске и радости, которая так просто и так чудно уготована каждому своя, о том, что выпало мне, что сбылось, а от чего ушел.
Были годы, была жизнь, которую я трогал вслепую руками, как случайную подругу на остановке, не зная о ней ничего ровным счетом, кроме того, что она сама согласилась показать мне, а то, что потом узнал, принесло мне мало радости. И возвращается ко мне дерзкая легкость пройденных когда-то дорог, а вдоль тех дорог все в диком цвету, заброшено навек и утонуло в багровой печали. Где-то на дороге встретилась мне смелая девочка Лена, которой тоже тесно было жить на свете от ненависти и тревог, и требовался кто-то, чтоб недоумевать и заботиться о ней, искать ее по клубам до рассвета, спрашивать, где она обедала и дарить ей ландыши и шоколадки.
— Все, что делала я, я делала для тебя.
Какая странная фраза! О, Лена, где ты сейчас? Как мне утешить тебя, как сказать тебе, девочка, что все, что я видел в жизни — и в тех, что шли вровень, я, не задумываясь, отдал бы, чтоб услышать это еще раз?!
— Я боюсь, эта работа навредит тебе. Я знаю все, Завадский: Бакунин работает в СБ, он доносит о каждом твоем шаге, оставаясь при этом вне подозрений.
Мой отец… Малышев сотрудничает с вашими заклятыми врагами, с «Националем», получает сумасшедшие объемы по смешной цене в виде исключения, собирается представлять «Националь» на рынке региона, а Райхуллин из вашего презента в складчину и. о. изъял три штуки…
— А это откуда ты знаешь? — это было слишком. Это последнее — the partner is above suspicion.
Лена нехорошо усмехнулась: «знаем место»…
— Бакунин?.. Ты… с Бакуниным?
Она коротко кивнула. Ничего, в общем, не изменилось, почему же так стемнело на душе? Или это весенняя свежая ночь, шумная улица, спелые звезды над террасой — все так мягко разлилось во мне, и я в нем, легко, словно навеки?
— Почему ты не можешь бросить? Разве ты еще заработал недостаточно?
Поезжай к маме, ты ведь даже не знаешь, как она там. Может, она нуждается…
— Я ненавижу свою мать! — услышал я свой окрик, — надо же, как изменился, как странно изменился мой голос, как я сам изменился в этом крике — и кулаком по столу. Извини, Лена, и за это.
Мы молчали, это было вязко, как пьяная страсть в подъезде. Я не слышал своего дыхания, не видел, куда смотрел и не помнил, сколько прошло времени, — как долго я мог просидеть неподвижно, думая единственно о том, что в этом оцепенении в пору и умереть — остыть и тихонько свалиться набок, и все. Все мне уже ни к чему, не согреет…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Ayens 23»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Ayens 23» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Ayens 23» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.




![Автор неизвестен Детская литература - Верхом на урагане [Из американского фольклора]](/books/25390/avtor-neizvesten-detskaya-literatura-verhom-na-urag-thumb.webp)