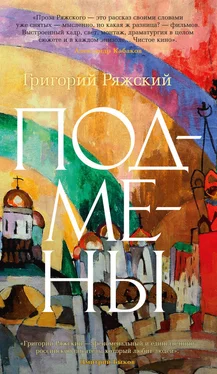– Дед, для чего ты меня поздравил? Это что, издёвка? Может, объяснишь?
– Конечно, милый, – спокойно отреагировал дедушка, – ну конечно объясню. Я сказал это, желая проверить твою реакцию на мои слова. У тебя через месяц экзамены, и я хочу, чтобы ты отбил вопрос приёмной комиссии не просто достойно, но ещё и проявив способности, которыми ты, возможно, обладаешь. Но только лично я их пока никак не обнаруживаю. Так что без обид, Гаринька. Просто подумай о том, что я тебе сказал, и постарайся приготовиться должным образом. Забудь о них, о самих людях, когда они же тебя озадачат. Делай так, как делаешь это в жизни: искренне любя или, скажем, точно так же в этот момент ненавидя предмет или сущность. И помни – каждое слово твоё, каждый жест или мысль найдут для себя место в пространстве разума. Ты же в то время, пока будешь создавать образ, попробуй настроить внутренние антенны на мысли твоих экзаменаторов. Наверняка они в этот момент обитают где-то поблизости от тебя и от них же самих. Найди нужный центр и просто войди в него. Услышь. Ощути. И сделай так, чтобы они услышали тебя.
Было мудрёно, но, кажется, я что-то понял тогда, извлёкши из дедовых слов некий сущностный момент. Вероятно, мы просто совпали с ним по образу мысли, как родные, глубоко чувствующие кровную связь люди. Другое дело, хватит ли мне воли убедить в этом театральных профессионалов.
Размышляя о том, я не заметил, как подступил июль. Уже повсюду, кучками и в розницу, лежал чёртов пух, наваленный на московский асфальт не добитыми городской отравой тополями. Часть пуха, задетая ветром, взметалась вверх и, забивая ноздри, частично попадала в рот. Я отплёвывался, двигаясь в сторону Тверской, куда шёл не сдаваться – иначе как бы смог я, Гарри Грузинов, смотреть в глаза моего доброго и единственного наставника Моисея Дворкина.
Не скрою, нервничал, и довольно сильно, потому что, подав сразу в три места, я успел уже провалиться в Щуке и Гитисе. Осваивая первую из версий большого светлого будущего, срезался ещё на стадии отборочного прослушивания. В ходе второго варианта, кое-как его одолев, – недобрал сколько-то баллов на творческом испытании. Басня оказалась не моей, и, к несчастью, я понял это слишком поздно. Оставалась Школа-студия МХАТ. Последний этап заключался в профессиональном испытании качеств, без которых артист пуст, как некрещёный поп: проверка голоса, речь, пластические данные, координация движений, музыкальные возможности и всё подобное этому. Никогда не думал, что путь к моему неземному, будто скинутому из космоса «Хлестакову», лежит через рутинные, одинаково скучные стихи и басни, так и не давшие, как я себя ни уговаривал, подпитки ни сердцу, ни уму. Кроме того, было немного совестно перед близкими: я долбил – дед проверял стихи, Анна Альбертовна – басни. Затем они менялись местами, хотя выражения их лиц оставались одинаково невозмутимыми. И если бы в последний день испытаний случился облом, я не знаю, как бы стал жить дальше, рядом с дорогими мне людьми, чьи надежды пришлось бы обрушить.
Однако не обрушил. Просто не выпустил из рук, не дал шанса. И вновь благодаря деду. Накануне вечером он зашёл ко мне и подал в руки папку, перехваченную красной тесёмкой. Сказал:
– Почитай, у тебя есть ночь. Это рукопись нашего соседа по Каляевке. Засыпешься завтра – значит дело изначально не твоё. И не пыжься, когда будешь представлять чужую жизнь, помни о том, что я тебе сказал: сфера разума едина для всех.
Я шёл по Тверской, приближаясь к месту испытания моего неведомого таланта, который даст мне право забираться в чужие шкуры, петь чужие песни, молиться посторонним богам. Я уже не знал, какое из потрясений было ощутимей – «Хлестаков» или история Деворы и Ицхака Рубинштейн. Не знаю, для чего Моисей всучил мне исповедь Ицхака: я читал её всю ночь, а к утру почувствовал, что именно она мне и сбила фокус. Театр, учёба, карьера большого артиста, весь этот горячечный внутренний призыв, что так мощно сигналил из-под рёбер, – всё разом отступило, освободив место для трезвых раздумий и печали. То настоящее, хоронившееся между строчек, жёсткой вязью и с твёрдым правым наклоном букв выписанное стариковской рукой, уже тогда начинало одолевать во мне призрачное актёрство, но только я об этом ещё не догадывался. Сама по себе история наших соседей была трагичной, непостижимой, просто ужасающей, однако содержавшаяся в ней поразительная правда пронизана была настолько мощным и высоким духом и несла с собой такую справедливость, что не могла не взволновать меня настолько, что, идя на экзамен, я уже внутренне готов был к провалу. Хлестаков, легкомысленно мотая полами расшитого золотом кафтана, улыбался и с издёвкой подмигивал мне с ближайшего облака, легко сорвавшегося с недавней ещё космической выси. Он просто сидел и дурковато болтал ногами, напуская зловредного тумана в голову мою и глаза.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу