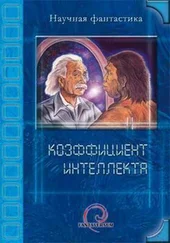По спине рассыпались волосы. Они были свернуты жгутом на макушке неподвижной головки, и вот каким-то образом она распустила этот жгут. Гладкие и черные, они доставали до талии. Она снова замерла с опущенной головой, свесив волосы вперед. Когда черные пряди закрыли лицо, руки скользнули под них и занялись застежками из золотого сутажа. Она содрогнулась, и одеяние упало с нее; быстрым движением маленькой белой ступни она откинула его назад. Музыка смолкла. Танцовщица стояла в золотом бюстгальтере и маленьких золотых трусиках, украшенных золотой бахромой. Без одеяния она стала еще меньше, застыв на месте (с опущенной головой и скрытым от взоров лицом), она всем своим видом показывала — так, по крайней мере, казалось Хатчу, — что танец окончен: национальный танец Китая, голодного и униженного с времен незапамятных, со своими миллионами обманутых детей. Она неподвижно стояла под пристальными взглядами всех этих теряющихся в темноте людей, как и она, безмолвных.
Хатч опять повернулся к Робу — по-прежнему незримому, но присутствующему: их локти соприкасались на подлокотнике. Может, следовало бы похлопать или момент для этого слишком торжественный? Может, она просто удалится сейчас за кулисы?
Кто-то сказал: — Ну, я жду. — Это был человек, сидевший за Хатчем.
Еще мгновение. Затем ее руки, лежавшие на животе, скользнули вверх, подобрались к бюстгальтеру, и он упал к ее йогам, даже без ее прикосновения. Снова она резким движением откинулась назад, и головка ее медленно поднялась. На лице играла легкая улыбка. Грудь была обнажена.
Хатч еще никогда не видел женской груди. После смерти матери он жил в обществе пожилых женщин, которые тщательно прятали свое тело, и его познания в этой области ограничивались снимками в иллюстрированных журналах и гипсовыми статуями Венеры и Ники в школе. Зрелище это не вызвало у него особого интереса — атрибуты взрослых тел, которыми среди его сверстниц были наделены лишь несколько девчонок. Все же он смотрел во все глаза, уверенный, что Роб вот-вот уведет его отсюда. Идеально круглые, груди вибрировали вместе со всем ее телом (танцовщица снова начала двигаться под звуки замирающей музыки), полностью игнорируя земное притяжение: две, каким-то чудом державшиеся на месте опрокинутые фаянсовые чаши, посредине — коричневатые венчики размером с крупный цветок. Почему ей вдруг захотелось обнажить их? Почему люди сидят и смотрят? Что за тайна скрывается за этими скромными форпостами, вызывая у людей желание платить деньги за возможность поглазеть на них? Что они находят хорошего во всем этом?
Свет становился все ярче и ярче, темп музыки снова убыстрился. Она отозвалась, закружившись волчком, руки ее так и мелькали. Хатч пиал, что, повернувшись, увидит отца — лица сидевших вокруг мужчин все отчетливей вырисовывались в темноте, но он не повернулся — из страха встретить взгляд и улыбку, представляющие уж совсем неразрешимую загадку. Еще одна тайна, к которой его подвели без предупреждения, без объяснений. Сознательно ли сделал это Роб? Знал ли он, что, кроме картины, им покажут еще и это? Хатч не видел никакого объявления у кассы. Роб ничего не сказал ему.
Танцовщица была совершенно голая. Кружась, она сорвала с себя все, что на ней еще оставалось, и остановилась спиной к ним. Зад у нее был плоский, совсем мальчишеский. Под оглушительную музыку она раскинула руки в стороны, как крылья, и вдруг повернулась лицом к залу. Маленький треугольник между ее тесно сомкнутыми ногами, гладкий, начисто лишенный волос, был обведен яркими камушками, которые сверкнули на миг перед глазами. Затем все огни погасли.
Роб хлопал вместе со всеми.
3
Час спустя, посмотрев первую часть картины, съев мороженое и почувствовав усталость, они вернулись к себе в пансион. Хатч сразу же лег в постель; он лежал под простыней, лицом к сосновой переборке и мучительно думал.
Роб, выйдя из ванной в одних трусах и носках, подошел и присел к нему на кровать. Мальчик лежал отвернувшись. Роб попытался взглядом — добрым взглядом — заставить его повернуться. Уснул, что ли? Он ведь еще не достиг того возраста, когда дети утрачивают способность беспрекословного подчинения. — Ты уже помолился?
— Да, папа.
— И за Элберта помолился?
Довольно долгое молчание. Затем: — Да, папа. — Он не собирался поворачиваться.
— Ты сердишься на меня?
— Нет, папа. За что мне сердиться?
Роб стянул носки и стал растирать ступни. — Ну, мало ли за что. За представление, на котором мы были.
Читать дальше