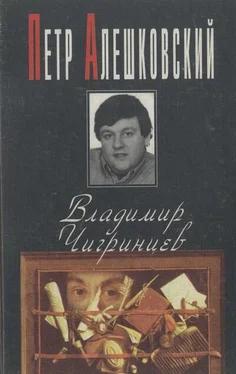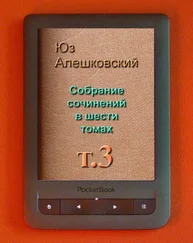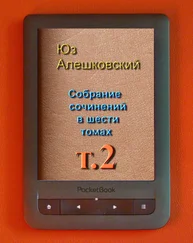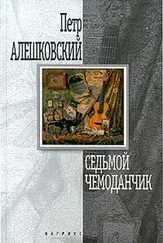— Вы знали заранее, что так получится?
— О нет! — Он тяжело выдохнул воздух, и стало заметно, скольких сил стоила ему торговля. — На ожерелье я не мог рассчитывать. Ваш хитрый отшельник ловко выкрутился. Он считает, что вынудил меня купить, — тут он ошибается. Видите ли, Воля, деньги как таковые — ничто, но без них невозможен был бы день сегодняшний, к примеру. На всякий случай я взял с собой двадцать тысяч — все, что мог себе позволить, чутье мне подсказало — они пригодятся. И вот налицо еще и экономия… Шучу, шучу, — поспешил заметить он, — нечасто приходится совершать широкий жест, не так ли?
— Простите, я не могу принять драгоценности, пускай остаются у вас, — объявил ему Воля.
— Хорошо. — Голос Княжнина приобрел официальный оттенок. — Не стану повторять, как я вам признателен. Осознаю также, что ваш широкий жест много шире моего. Честь имею, — он отсалютовал головой, — мне бы не хотелось думать, что вы на меня обижены.
— Ну что вы, — нашелся Воля, — на обиженных, как говорят в зоне, воду возят, я восхищен.
— Вы были в зоне? — ехидно парировал Княжнин.
— Нет, я криминальными делами не занимаюсь, — сухо ответил Чигринцев.
Холодно пожав друг другу руки, они разъехались по городу — каждому предстояли строго расписанные дела, связанные с похоронами.
9
Гражданскую панихиду устроили в университетском физкультурном зале. Собралось много народу — помимо прямых учеников, через руки Павла Сергеевича прошло не одно поколение студентов. Руководил всем Аристов, явный преемник покойного. Он говорил с той мужской сдержанностью, что соответствовала внутреннему состоянию собравшихся, даже официальные лица в почетном карауле выглядели менее истуканисто, чем обычно. Некоторые женщины постарше вытирали глаза. Любопытство светилось лишь на студенческих лицах.
Покойный лежал в простом красно-черном гробу столь же спокойно-умиротворенный, как и в первые часы после смерти. Похоже, даже ненавидевшие его деканатские штафирки ощутили начало научного бессмертия, о котором во всеуслышание возвестил Аристов. Быть может, так только казалось, но понятная, слегка тревожная приподнятость овладела залом. Выступали без микрофона — голос, наткнувшись на стены, отскакивал и гулко дробился, падал со всех сторон на присмиревшую толпу.
После отпевали на Ваганькове. Невероятно худой и дурноголосый батюшка служил панихиду усердно, со всем видимым тщанием. Начальство крестилось по-партийному показно, большинство же твердо держали дрожащие свечи, как еще реальную, но на глазах истаивающую связь с уходящим, сосредоточенно глядели в холодный костяной лоб усопшего, запечатанный бумажным венцом с молитвой. Суть великого таинства проникала в души собравшихся постепенно, помимо воли, — все меньше шаркали ногами, и если при чтении псалтыри еще только прислушивались как к камертону, то при начавшемся заупокойном каноне суетное легкомыслие, кажется, на миг отлетело, люди погрузились в самоуглубленную тишину. В церкви стало уютно и тепло, сильно пахло сгоревшим воском и пряным ладаном.
Воля стоял в первом ряду поблизости от сестер и краем глаза видел, как мучительно напряжено лицо Татьяны. Лишь при чтении разрешительной молитвы, когда священник проголосил своим тенорком отпущение грехов покойному, в коих покаялся и кои забыл исповедать по слабости своей памяти, краска хлынула ей на щеки, и, не сумев совладать с собой, Татьяна опустила глаза долу. Запели трисвятое, и вскоре на длинном непрерывном дыхании батюшка огласил «Вечную память». Гроб подняли на плечи, неспешно и торжественно понесли по аллеям к раскрытой могиле.
Павла Сергеевича хоронили рядом с матерью — в правом углу фамильного чигринцевского участка. Большой железный крест того самого предка, что состоял при Кучук-Кайнарджийском посольстве, самый древний из сохранившихся в общей ограде, возвышался над собравшимися. Свежеокрашенный в последнюю Пасху, он слабо поблескивал в тени старых кладбищенских тополей.
У могилы выступали уже самые близкие. Официоз испарился начисто — речи произносились нервными, трепещущими в холодном воздухе голосами. Не обошлось, правда, и без патетики: клеймили травивших Дербетева при жизни, клялись в верности интеллигентской российской традиции, не стеснялись откровенных рыданий, но в митинг прощание, слава Богу, не переросло. Умница Ларри, длинный, смущенный от оказанной чести, наивно-чистосердечный, коротко и душевно, а главное, без всякой сверхзадачи переломил тональность — обрисовал профессора без прикрас, вспомнил и барственность, и сибаритство, и капризность, и душевные метания, и так, очеловечив уже почти слепленный памятник, покаянно передал всю сложную гамму чувств, связанную с произошедшим. Последующие выступления звучали перепевами, и именно здесь стало отчетливо ясно, что подавляющее большинство обозначивших себя учениками даже близко не соответствовали уровню покойного.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу