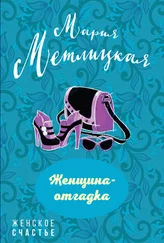в особенности содержание банок: яичники, матки, женские груди…
Словно гипнозом ее притягивало к хранящемуся в банке зародышу девочки, она наклонилась, рассматривая неразвитое лицо,
а когда затем чуть опустила голову, взгляд ее упал на раскрытую зачитанную до дыр книгу, свалившуюся на пол.
Красным карандашом кто-то подчеркнул в ней несколько предложений, и женщина из чистого любопытства склонилась и стала тихо читать про
себя:
«Что ниже пояса у них — Кентавр,
Хоть сверху женщины,
До пояса они — созданья Божьи,
Внизу — один лишь черт.
Там — ад, там мрак и серная там бездна».

Дрожь отвращения и тревоги пробежала по ее, в общем-то лишенному всякого выражения, лицу, и тут она вздрогнула, услышав голос Дрейфа, раздавшийся из противоположного конца комнаты, который с нетерпением спрашивал, не пора ли им начать
(доктор был голоден, он устал, и ему хотелось со всем этим как можно скорее покончить, чтобы ровно в шесть часов госпожа Накурс подала ему ужин, обычно состоявший из вареной говядины, горошка, картофеля и привычного стакана пенистого, холодного пива).
Поэтому он, чуть небрежным жестом сморщенной стариковской руки, указал женщине на винно-красный диван,
набивка которого износилась от нескончаемого числа похожих друг на друга женщин, которые все до одной, лежа на спине, уставясь в потолок, собирая пыль, в течение часа поверяли ему глубочайшие тайны своей души.
Женщина поступила, как ей было сказано.
Пыль закружилась вокруг ее изящного силуэта, когда она с крайней осторожностью,
словно не желая нарушить свое хрупкое психическое равновесие, улеглась на диван.
Теперь в приемной Дрейфа слышно было лишь как скрипит большое острое стальное перо, которое черными до горечи чернилами записывало имя женщины,
Ева,
в старый заплесневелый журнал,
а также еще более приглушенный
звук запряженных лошадьми экипажей, катившихся мимо по Скоптофильской улице,
в городе Триль,
где в это время медленно сгущался осенний вечер и в разных направлениях спешили жители,
через мосты и площади,
по замощенным булыжником улицам, поднимающимся на крутые холмы,
в булочную, в мясную лавку или домой,
неся цветы, яйца, мясо, хлеб и прочие, более или менее таинственные, пакеты и посылки.

Дрейф с некоторым удивлением отложил ручку в сторону:
— Посмотрим, правильно ли я вас понял.
Вы, значит, утверждаете, что вам стали…
Он склонился над письменным столом, прищурился и попытался прочесть слово, небрежно записанное им секунду назад:
— …являться сотни СУДЕБ…
Тут он взглянул на женщину:
— Не так ли, милая барышня?
Женщина долгое время смотрела
широко раскрытыми, пустыми глазами
прямо в потолок,
не отвечая, не дыша и не мигая.
Зачем она послушалась совета старшего брата Сирила и пришла сюда?
Зачем это нужно?
С чего ей вообще следует начать?
Как она своим женским языком сумеет описать хотя бы крошечную часть всех этих странностей, ощущений и страданий, постоянно проходящих перед ее внутренним зрением?
…нескончаемую драму жизни, смерти, выживания, местом действия которой неожиданно сделался ее плотский женский образ?
А эта комната
(у нее закололо в носу от слегка пахнущей формалином пыли),
такая темная, затхлая, спертая какая-то,
а сам доктор Дрейф?
Он, конечно,
весьма известный эксперт,
только он такой маленький, почти карлик,
и какой-то болезненно сморщенный,
и так нездорово бледен,
будто прожил все свои дни в этой спертой комнатушке с толстыми фолиантами, стеклянными банками и огромным журналом,
и ничего другого,
ничего больше,
никакой настоящей жизни!
И вдруг комната вообще показалась ей не комнатой,
а скорее состоянием —
ужасным, затхлым, кошмарным состоянием!
Однако она произнесла:
— Да, доктор, по крайней мере сотни,
а может быть, и еще больше!
Она почувствовала, как что-то стало давить ей на грудь:
атмосфера в комнате,
множество тяжелых фолиантов,
содержимое банок,
все!
Частицы пыли опускались и поднимались в лучах света, она замолчала, но потом снова заговорила,
изумленная тем облегчением, которое испытала, начав свою исповедь:
Читать дальше