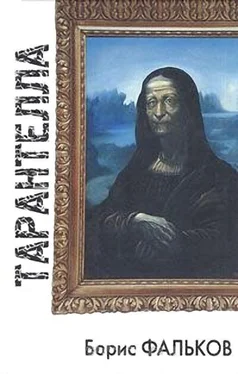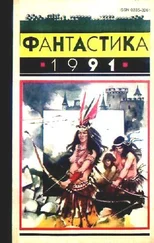Нелепо жаловаться на изнурительную тягостность позиций. На замедленное, почти остановленное время. На нестерпимость его дления, подобного нестерпимому жжению после молниеносного укуса ядовитого насекомого. Если уж жаловаться, то не на гром, а на саму молнию. Но при всех жалобах делать придётся то же, иного не дано: пока не все жесты и па проработаны, и сигнал не дан, надо длить позы, продолжать прежний, регулярно задыхающийся аллюр, прихрамывающий галоп. И она продолжила.
— Хорошо. — И это поверхностное выражение тут же налилось глубиной, наполнилось угрозой. — Может быть, мне всё-таки поговорить с женщинами?
— Да не станут они с вами разговаривать, — сквозь зубы прошипел священник, как сплюнул. — И на что вы только уповаете? Непонятно.
Он больше не глядел на своего оппонента в дискуссии, или союзника, как тут разобраться… на своего придворного аналитика. А может, как знать, своего надсмотрщика?
— Но вы потом не жалуйтесь, что вас не предупредили, — добавил тот.
— Но почему? Им запрещено… должны знать своё место… существа второго сорта? Вот это и есть средневековье… сегодня…
Она задыхалась: не передохнув, нельзя было довести до конца и одной фразы. Теперь она и сама осознала, что при каждой такой передышке — оглядывается. Как не осознать, если это делалось так замедленно, что голова за краткую паузу не успевала вернуться в начальную позицию, будто ей мешала это сделать внешняя сила, и вынужденно продлевала свой пируэт. Так слабосильный танцор, скрывая недостаток мощи и подчиняясь ему, умело длит прыжок.
— Ей Богу, стала бы Папой Римским только для того… чтобы разогнать вас всех, закрыть лавочку. Вот какой была бы моя первая и последняя булла.
— А говорили, что насилие — мужская культура, — возразил священник. — Чего это вы всё взбрыкиваете? Не можете культурно вести дискуссию, так скажите прямо, что нам всем нужно совершить обратный переворот и снова установить матриархат.
— Уже установлен, — уточнил цирюльник, вступив, как всегда, в своё время. — Пригрели мы змею за пазухой, по-вашему — лярву в куколке, разве нет?
— К сожалению, нет, ещё не установлен, — выдавила из себя она. Если уж кто и пригрел змею, так это она, добровольно приведя сюда этого брадобрея. Буквально выносила его в своём брюхе, возможно, потому её так сильно и тошнило. И это её-то они упрекают в насилии! Но она ни за что не уступит их наглому давлению, если уж ей придётся уходить, то только тогда, когда она сама решит это сделать.
— А в заключение я скажу вам следующее.
Городу и Кооперативу, прокомментировала она в уме, не успев высказать это вслух: падре предостерегающе поднял ладонь, как бы призывая паству стоять смирно.
— Допустим, вы говорите правду, синьора. И вас действительно интересует… культура, глубоко укоренившиеся обычаи, интимности быта, а не коррупция. Тем хуже обстоит дело. Вы ходите и подзуживаете людей болтать с вами не о вещах суетных, мирских, а об их интимной жизни, по сути — о святой внутренней жизни души. А об этом на площадях не говорят, об этом публично не судачат, не сплетничают. Жизнь души — таинство, это тема для исповеди, а не газетных статеек. Вы, в сущности, требуете, чтобы вам исповедывались, и у меня вырываете силой тайны чужих исповедей. Пытаетесь урвать кусочки чужой добротной жизни, за неимением своей, и попользоваться ими хотя бы в воображении, как это делают злостные личинки моли с добротной тканью. Да, это правда, есть такие злостные духи, лярвы, это ещё и древние римляне знали, сами по себе лишённые жизни — но жадно высасывающие из живых людей всё живое, и питающиеся этим. Вот и вы жаждете, чтобы я для вас умертвил живое таинство, совершил преступление. Подумайте, если можете, с какой стати я буду это делать? Не умеете думать, то хотя бы вообразите, что я публично расскажу об интимных деталях вашей ночной жизни, в которых вы мне, допустим, открылись на исповеди. Такое вам понравилось бы?
Нет, такое ей не понравилось бы. А припомнив некоторые нюансы этой ночной жизни и тогдашнее ощущение, что за ней подглядывают, она, хотя и неохотно, подавила желание возразить. Попытку обернуться и узнать, не подсматривает ли кто и теперь сзади, снаружи, за тем, что происходит у неё внутри — пришлось подавить тоже. Но тут уж она отлично знала, что делает: ещё раз увидеть за собой шамкающую беззубую клячу, обвисшие из углов пасти подобно уздцам сталагмиты слюны, смазывающие равнодушный камень слизью — это разорвало бы сердце. Не видеть, только слышать эту музыку — тра-та-та, пауза, тра-та-та уже достаточно, чтобы надорвать его.
Читать дальше