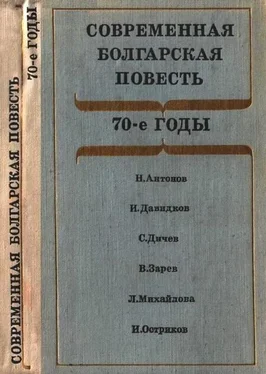— В полсекунды, ребята, в полсекунды! Напарник у него новичок. Выронил металл, а наш бросился… оттолкнул того, спас, а сам не успел, металл упал ему вот сюда. — Шофер поднял руку к третьей пуговице на рубашке и забыл ее там.
Я вспомнила, как шипела на вальцах красная раскаленная змея. Как рабочие, насторожившись, ждали, когда в конце линии появится ее голова, хватали ее длинными клещами, и на одно короткое мгновение их тела опоясывала огненная дуга.
— Полсекунды, ребята, всего полсекунды! — стонал надо мной голос Семо. — Словно пуля резанула, и, пока его вытащили, рубашка уже задымилась. А когда я прибежал, не было уже нашего Костадина, увезли его на «скорой помощи», а зачем?.. Все вокруг стоят как потерянные, а тот, спасенный, сидит на цементе и плачет.
Я не могла оставаться в классе. Всем своим существом я чувствовала, что стоит мне взглянуть на парту Костадина, как внутри у меня что-то зазвенит и сорвется. Прижав к груди журнал, я выбежала из класса. Вслед мне неслись сдавленные всхлипы Антонии, это слезами девушки оплакивала смерть Костадина моя мужская I «б» группа.
На похороны я не пошла, только постояла у подъезда нового дома, где Костадин недавно дали квартиру, но так и не нашла в себе силы подняться по лестнице. Потолкавшись в толпе, я остановилась на тротуаре по другую сторону улицы. Не хотела я видеть Костадина и его русые волосы, расчесанные чужой рукой. Я хотела запомнить его в зеленой, шуршащей от каждого движения и вечно выдававшей его куртке, когда, опоздав на урок, он надеялся незаметно пробраться на свое место. В тени акации стоял пыльный грузовик с ямбольским номером, и сквозь щели кузова поблескивали ягоды черешен.
Я долго смотрела на них, чувствуя, что отныне любое воспоминание об этом тягостном дне обязательно вызовет в моей памяти эти алые, сочные, полные жизни ягоды, так весело отрицающие смерть.
Толпа у подъезда становилась все гуще, наверное, это была первая смерть в новом квартале. Детишки, привыкшие, что люди собираются вместе для веселья, сейчас, скопившись в скверике, поглядывали на толпу, не смея начать свои игры.
Откуда-то появился Семо. Я подозвала его и попросила показать человека, из-за которого погиб Костадин.
Плотный, мускулистый паренек прошел совсем рядом с нами. Рыжая щетина на небритых щеках поблескивала, словно кусочки медной проволоки, а все его круглое лицо и серые глаза дымились безысходной, гнетущей скорбью.
Ради каждого из нас когда-то погиб человек. Погиб на войне или в восстании, но мы не знаем его, потому что были тогда детьми или вообще не родились, а пока выросли, время возвысило эту смерть настолько, что она стала для нас и святой историей и долгом — ведь для того павшего бойца именно мы были воплощением его мечты, воплощением его будущего. Но как жить, если вчера, только вчера из-за тебя погиб другой человек, и ты дружил с ним, закуривал из его пачки и знал, какое имя тот выбрал для своего еще не родившегося ребенка.
Паренек ушел, черная лента перетянула его рукав, не давая ему наполниться ветром. Какой-то старик прибивал некролог к потрескавшейся коре акации. И некролог я тоже не хотела видеть. Эту же самую улыбающуюся фотографию девять месяцев назад я вклеила в студенческую карточку Костадина.
— Семо, я уйду, — тихо сказала я.
Шофер взглянул на меня невыспавшимися глазами, но не спросил почему.
Я сберегла те листочки, никому не отдала. «Самый лучший человек из тех, кого я знаю…» Что тогда написал Костадин? И я заторопилась домой. Там у меня в шкафу среди прочих бумаг сохранился кусочек мысли моего молчаливого ученика, несколько написанных его рукой строчек, которые, может быть, объяснят мне его жизнь и его смерть.
Когда человеку впервые приходит мысль о смерти? Наверное, не в те далекие детские годы, когда он ниточной петлей отсекает головку майскому жуку, насаживает на иголку бабочек или до тех пор сжимает в кулачке выпавшего из гнезда птенца, пока не заглохнет чудесный пульсирующий механизм птичьего сердечка. Нет, все это еще не смерть, даже не познание смерти — это всего лишь игра, жестокая игра, при помощи которой маленький человек знакомится с природой.
Нас, детей, смерть сначала удивляет. Так удивляло внезапное исчезновение бабушки, которая по утрам приносила молоко, оставляя за дверью полные бутылки. Два-три дня молока не было, а потом как-нибудь утром появлялся неизвестный тихий человек со знакомым бидоном и объяснял, что он сын той бабушки. И, сделав несколько пустых оборотов, снова начинало вертеться колесо дней, огромных долгих дней, которым в те детские годы не грозил никакой закат. Потом мрачная правда смерти делала еще один шаг к нашим сердцам. Умирал любимый артист. Мы никогда не встречались с ним, потому что жил он в далеком городе или в еще более далекой стране, и наше чувство было не столько любовью, сколько потребностью восхищаться красотой. Но и это еще не было познанием смерти. Если мы не помним тепло рук человека, если не слышим, как звучит его голос, звучит только для нас, мы можем долго грустить о нем и помнить, но наша печаль остается слишком разлитой и общей, лишенной тех тонких-тонких корней, которые навсегда врастают в сердце и мешают времени вырвать ее оттуда. И может быть, впервые мы по-настоящему чувствуем смерть, лишь когда она отнимает у нас того, кто жил рядом с нами, родного, близкого человека со всеми его достоинствами, которые мы снова и снова будем вспоминать с горестной скорбью, и всеми его недостатками, которые, даже побледнев от времени, будут придавать правдивость и жизненную достоверность нашим воспоминаниям.
Читать дальше