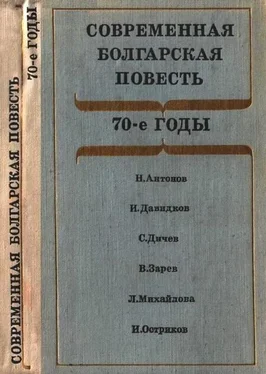Я не знала, что делать.
Когда-то у нас в классе пропала авторучка. Учитель рассердился и заставил нас встать рядом с партами. До сих пор помню его слова: «Так, а сейчас, дети, откройте сумки!» Да, но он мог так сказать — дети! А я из-за кого-то одного не имела права оскорблять остальных двадцать девять человек, глядевших сейчас на меня усталыми, невыспавшимися глазами.
— Большое дело! — примирительно заговорил шофер. — Не стоит себе портить жизнь из-за каких-то циркулей.
Медленно поднялся Филипп.
— Товарищ Георгиева… — Он глубоко вздохнул и провел ладонью по седеющим волосам. — Вы это дело оставьте на нас. Не дети, разберемся.
Группа облегченно вздохнула. Мариан Маринов, опустив голову, рассматривал бинт на большом пальце.
После урока горноспасатель догнал меня в коридоре.
— Вы уж не на него ли подумали? Да ведь если это Маринов взял готовальню, куда он ее принесет? Туда же в общежитие, а там я бы увидел.
Я согласно кивнула, но шахтер все еще загораживал мне дорогу.
— Не Мариан это, вот что я хочу сказать! Голову даю на отрез — не он. Вы только директору ничего не говорите. Подымется шум, а мы тут сами разберемся.
В следующие несколько дней ничего не случилось. О готовальне никто не говорил ни слова, молчала и я.
— Спрашивай, — предупреждала меня Андреева. — Спрашивай на каждом уроке, а то накопишь к концу полугодия.
И я спрашивала. Стоилчо Антов ответил на тройку. Было видно, что он вообще не готовил урока и норовил уклониться от прямого ответа на заданный вопрос.
Семо Влычков получил «хорошо». Говорил он чуть бессвязно, каким-то неимоверно тонким фальцетом и то и дело вытирал лицо и шею огромным носовым платком в красную и синюю клетку… Увидев четверку в дневнике, шофер сразу же успокоился и уже своим обычным голосом объяснил:
— Да как же мне отвечать более связно, когда вчера я целый день не вылезал из машины. Я и урок этот начал готовить в Радомире, продолжил в Софии, а кончил только в Ихтимане.
Все засмеялись, но на этот раз смех тридцати сидящих передо мной мужчин не захлестнул меня горячей волной радости и облегчения. Между нами стояла маленькая черная тень готовальни «Рихтер».
Я дала им домашнее задание и на следующий день собрала тетради. Одни из них все норовили свернуться в трубку, в других между страницами были крошки табака. Верно, носили с собой и заглядывали туда каждую свободную минуту.
— Что же ты поставишь за столько ошибок? — заглянул через мое плечо Михаил.
Я не ответила. Я уже понимала, что мои отметки должны оценивать все — в том числе и бессонные ночи моих учеников.
— А мой приятель, плотник, как себя показал? — спросил опять Михаил.
Сочинение Стоилчо Антова было написано его сыном. Лучше всех оказалось домашняя работа Костадина, молчаливого парня с последней парты, чья автобиография уместилась в одну-единственную строку: «Родился в Бургасе, возраст двадцать шесть лет, вальцовщик на Металлургическом комбинате».
— Ты можешь мне точно сказать, что такое вальцовщик? — спросила я.
— У тебя и такой есть? — засмеялся Михаил. — Сказать откровенно, не очень. Один из ваших проходчиков рассказывает, что до туннеля он был вальцовщиком, у него на руке шрам от ожога. Целыми днями без умолку кидает соленые словечки. Твой тоже такой?
— Нет, мой грустный.
Михаил взглянул на меня, передернул плечами, потом вынул счетную линейку и ушел в цифры. Для него цифры — самое важное, что удалось достичь человечеству. Однажды он сказал мне: «Буквы и ноты придуманы, чтобы записывать наши мысли и чувства, но запомни, что я тебе скажу: только цифры способны организовать этот мир и только они способны его разрушить, если попадут в расчеты безумцев».
Я закрыла тетрадку Костадина и попыталась вспомнив его лицо. О чем же он грустит, этот мой ученик?
Вечером было родительское собрание дневного отделения, и наши комнаты оказались занятыми. Пришлось дожидаться в коридоре, пока отцы и матери не прошли мимо нас, обрадованные или огорченные тем, что они услышали про своих детей. Хорошо, что у нас не бывает родительских собраний. Мне кажется, ни за что на свете не могла бы я возложить на плечи какого-нибудь только что пришедшего с рудника отца тяжесть горькой правды о его ленивом чаде.
Передо мной остановилась невысокая пышногрудая женщина в новом плаще и улыбнулась так, словно мы с ней давно знакомы:
— Я — жена Филиппа. Были мы как-то на базаре, а вы с вашим мужем тоже там были, и Филипп издали мне вас показал — вон, говорит, наша групповая. Уж больно молоденькая, говорю. Вот с тех пор я вас и запомнила, товарищ Георгиева.
Читать дальше