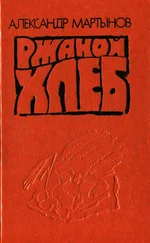Если бы мне сейчас дали винтовку и сказали бы: «Иди воюй!» — не знаю, пошла ли. И не потому, что пальцы у меня крючком, не могли бы нажать на курок. Не в этом дело. Думаете, я труслива, духу не хватило бы убить? Ведь могла же когда-то. Ствол не дрожал, целыми днями только и делала что целилась. Да, целилась. И снова нажимала. Я была прославленной убийцей. Снайпером. Синяя сумочка в шкафу полна наград. За что я их получила? За то, что расстреливала у других матерей сыновей. Умом я и сейчас понимаю, что так надо было, но сердцем — нет, для сердца это непостижимо.
Никто меня не принуждал: «Иди стреляй!» Меня гнали прочь. Меня, восемнадцатилетнюю, грозились выпороть. Когда мне говорили: ты еще должна возле матери погреться, — я плакала. Потому что мама с папой остались дома. Я ничего о них не знала. Потому что отказ меня оскорблял. Наконец один офицер с бородкой, прилипшей к подбородку как ласточкино гнездо, выслушал меня и разрешил. Видно, потому что я сперва рассказала ему о себе, а потом только попросилась на фронт.
Офицер потер заросший подбородок и, хотите верьте, хотите — нет, заплакал. Может, у него самого ребенок пропал или погиб и он представил себе это жуткое зрелище.
Я была совсем еще девчонка, хотела стать учительницей. Устроилась вожатой в пионерском лагере. Началась война. Сели в поезд. Поехали, а куда — никто не знает. Вагоны полны детей. И я, сама цыпленок, тоже со своими. Не одна, конечно. Была еще Зигрида. Воспитательница со своими двумя ребятишками. Вдруг все полетело, смешалось. У нас с Зигридой было тридцать детей. Когда я после бомбежки выбралась из гравия под насыпью, не было больше ни Зигриды, ни детей. Никого из наших. Я пошла, а ноги не слушаются. Кругом ручки, головки, ножки, кровь, все вперемежку. Я села на корточки в чистой воронке, и меня начало рвать. Казалось, все внутренности вывалятся, я испущу дух. Упаду без сил, и следующий взрыв засыплет меня камнями, ножками, головками.
Что было дальше, не помню. Очнулась в вагоне на полке. Долго не могла проглотить ни крошки. Мне делали уколы, давали таблетки. В конце концов я пришла в себя. И решила тогда во что бы то ни стало попасть на фронт. Я должна была убить тридцать одного врага — ровно столько, сколько было детей вместе с Зигридой.
Рассказываю офицеру с бородкой-гнездом о ножках, о крови и вижу — он плачет. Говорит: «Иди, Тия, отомсти!» Так попала я в снайперы. Расстреливала у других матерей их сыновей. Сыновей, что слились для меня в одно понятие — фашизм. Я стреляла и считала. Тогда я не думала, что это сыновья, которых рожали матери. Не представляла, что сама когда-нибудь стану матерью. Позже, гораздо позже, когда влюбилась в Матиса, а он — в меня, я начала думать о детях. Матис тоже был солдат. Я сказала ему: «Мы с тобой стреляли, ты не считал, артиллерист не может всех сосчитать. А я считала. Слишком много людей мы убили с тобой. Поэтому мы должны родить много детей. И хорошо их воспитать. Чтобы из них никогда не выросли фашисты. Чтобы больше стало в мире хороших людей, и тогда, быть может, он изменится к лучшему».
В то время, когда я смотрела на снимки девушек с винтовками или автоматами, мне еще не хотелось кричать. У меня на плече еще не выровнялась ямка от снайперской винтовки. Я только подсчитала про себя, что слишком много жизней погублено и что ущерб этот нужно восполнить. Я сказала Матису: «Пусть у нас будет столько детей, сколько я смогу родить». Матис ничего не говорил, только любил меня. Я не знаю, сколько женщина вообще может дать потомства. Рассказывают, что на свете есть матери с двадцатью, тридцатью детьми. Когда у меня родился Алфонс и прошло три года, я спросила доктора: «Разве у меня больше не может быть детей?» Он посмотрел на меня как-то странно и спросил: «А вам мало восьмерых?» «Мало!» — сказала я. Тогда он снова обследовал меня, долго и обстоятельно. Наверное, хотел выяснить, не помешалась ли я, часом.
Хотите верьте, хотите — нет, но в природе существуют регуляторы. Кабы не они, дай таким Тиям волю, уж они бы народили.
Куда бы я делась с тридцатью сыновьями? Дочери у нас с Матисом не рождались. Вы ведь знаете, Дзиркстелите у меня со стороны прижита. Да, прямо скажу, не знаю, куда бы делась с тридцатью. Если бы не включился регулятор, они у меня были бы. Точно так же, как те девять, кого я успела родить. Но ни за одного краснеть не приходится. От всех доставались и радость, и слезы.
Сколько Анджиню было лет, когда он потерялся? Три. Нет, три с половиной. Ишь, путать начала. Был рядом — и вдруг исчез. Искали, искали — нет нигде. Наконец нашли в пустой картофельной яме. Соскользнул туда, наигрался в песочке и заснул. Хорошо хоть ни одного гада в яме не оказалось. Только семь лягушечек насчитали. Анджинь свернулся калачиком и сопит. Лягушечки смотрят большими глазами, удивляются.
Читать дальше