— Ну… Ты лучше мне не пиши, наверное,— сказал Волохов, когда она — ни слова не проронив — отвезла его в аэропорт и теперь стояла с ним у стеклянных дверей; у нее опять была какая-то не то редколлегия, не то пресс-конференция, не то дежурство, которого она, разумеется, отменить не могла, да никогда и не стала бы. Оба были великолепно сдержанны — хоть сейчас в самый паршивый фильм семидесятых годов. Молодой сибирский город, он командированный, она местная, три дня счастья, расстаются навек, она идет к выходу из аэропорта (советский семидесятнический дизайн: хлопцы в робах и штанах, молодицы с детьми на плечах, фоном — комсомольская стройка или космическая ракета).
— А чего писать?— Ей, в отличие от него, спокойствие давалось легко.— Разве что-нибудь непонятно? Пишут знаешь когда? Когда отношения недовыяснены. У нас с тобой все понятно, даже обидно. Ты любишь меня, я люблю тебя, это навсегда. Лично я сразу поняла. Правда, жуть?
В эту минуту он все ей простил — все прегрешения, бывшие и будущие; и во время их последней встречи, несколько лет спустя и при непредсказуемых обстоятельствах, стоило ему вспомнить эту минуту — как все тотчас стало чудесно, и прежняя любовь обдала его жаром, и он задохнулся от нежности, как тогда, в аэропорту.
— Ну да, жуть. Писать вообще — пошлость. Начинается какое-то иссякание. Слушай, я, может быть, вернусь.
— Наверное, да,— сказала она.— Я так полагаю, что вернешься. Ненадолго, но все-таки.
— Или ты к нам.
— Это вряд ли.— Она сказала об этом абсолютно ровно.— Придется подождать.
— Ты меня хоть предупредишь? О начале боевых действий?
— Это нескоро. Посмотрим, конечно, как у вас будет сыпаться.
— А я приеду, наверное,— повторил он.— Не знаю, когда. Ты это… я не должен этого говорить. Ревность — слабость, так? Женя, ты это… не спи тут очень уж много с кем.
— Почему? Буду, обязательно. Как мне иначе без тебя обходиться? Не хочешь же ты, чтобы я рехнулась.
— Это, знаешь,— он не выдержал и подавился смехом.
— Не помню, кто… чуть ли даже не Алек Болдуин… когда его кинула Наоми Кэмпбелл, он провел ночь с пятью мулатками. Но и пять мулаток, по его признанию, не заменили ему ея. Не думаю, что я похож на пятерых хазар…
— Не похож,— кивнула она серьезно.
— Я довольно заурядный любовник.
— Абсолютно. Это-то и обидно.
— Что обидно?
— Что заурядного любовника, которого любишь, можно вытеснить только десятком незаурядных. Не волнуйся, когда ты вернешься, я разошлю их на все четыре стороны.— Она хихикнула.— По два с половиной в каждую.
— Может, мне эмигрировать?
— Ну, подумай. Этого я тебе не могу запретить. Учти, тебе здесь будет трудно.
— Я уже понял.
— И вообще, ты такой патриот… менять Родину на бабу…
— Ты перестанешь меня уважать?
— Нет, я как раз зауважаю.
— А что, нормально. Русь — она всегда мать. Можно же поменять образ Родины. О Русь моя, жена моя. Все беды именно от того, что путают жену с матерью. Либо желают мать, либо чересчур уважают жену. Это будет такой новый патриотизм…
— Все очень мило, но я-то не Русь.
— Да, это точно. В общем, я подумаю. Женька…
— Я тебя тоже, очень и навсегда,— сказала она и убежала.
Из аэропорта он набрал ее номер — она отключила мобильный. Волохов догадывался, что она так сделает. Молодец девка, подумал он. Экая война самолюбий. Не завидую я Отечеству, если она все это всерьез.
В самолете он надрался до бесчувствия и ехал из Шереметьева со страшно тяжелой головой, клюя носом и плохо понимая происходящее.
Волохов вернулся в Москву в начале октября, и скоро ему стало куда как худо.
Он проглядывал иногда женькин ЖД — живой дневник, с особенным сладострастием залезал в подзамочные записи, но и там не находил ничего сверх обычного. Личная жизнь у нее, вероятно, была — как не быть,— но либо не затрагивала женькиной души, либо не предназначалась для обсуждения. Женька писала о терроре, политике, новых людях и местах, подробно расписывала свои бесконечные разъезды, вывешивала фотографии — жизнь ее без Волохова шла совершенно как при Волохове и до него, и это его уязвляло, но и исцеляло. Он не мог позволить себе сходить с ума по женщине, так легко без него обходившейся. Через неделю он все-таки ей позвонил.
— О-о!— пропела она спокойно и ласково.— Здравствуй, зверь!
— Здорово,— сказал он хмуро, поскольку не любил признаваться в слабости.— Как ты?
— Как обычно. Ну, скучаю, конечно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







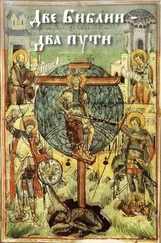


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

