В интонациях и даже внешности Марика появилось что-то обкомовское; положительно, всякий истинный вор в истинном законе обладал безграничными способностями к трансформации! Складчатое лиловое лицо его стало похоже на залупу. Впрочем, оно и было.
— У каждого из нас свои интересы,— сказал Марик.— У меня интересы, у Ицика интересы, у Руслика огромные интересы и огромное, чем удовлетворять эти интересы.— Зал сдержанно хохотнул.— Но мы имеем общий главный общий интерес, чтобы была жива наша мама-Родина. Я предлагаю выпить за нее, чтоб она была здорова, и за солдатиков, которые обслуживают ей главную ее надобность, чтобы было что покушать, ну и нам чтобы было покушать, дай Бог здоровья!
Все повскакали с мест и потянулись чокаться. Из колонок зазвучало патриотическое попурри любимого блатского барда Бобзбзона, большого доки по части любви к Родине. Попурри состояло из упомянутого «Березового сока», блатного эмигрантского романса о ненаглядной колдунье и баллады «Комсомол — мое богатство». Бобзбзон обещал приехать лично, но не выбрался — в Москве тоже кое у кого бывали дни рождения. Марик был не та еще шишка, чтобы к нему на сорокалетие трудовой деятельности ездил Бобзбзон. Громов успел подивиться блатному представлению о Родине, которую солдатики неуклонно снабжали кровавой пищей. Этот блатной взгляд был очень похож на штабной. При таком раскладе любая жертва разборки воспринималась как павшая за Родину, и, наверное, в этом был свой резон, как пел Бобзбзон: Родину вполне устраивало такое положение вещей, когда максимальное количество ее граждан мочили друг друга без толку и смысла, максимально жестоким образом. Ни на что, кроме пищи, они ей не годились: так мы не интересуемся мыслями коровы, а корова — творчеством сена. Громов на секунду заподозрил, что в глазах Родины ничем не отличался от подручных Марика, и решил, что в конце вечера непременно врежет Марику меж глаз за такую трактовку воинского долга; он знал, что блатные посиделки часто заканчиваются хаосом, потасовкой и перестрелкой, но еще не догадывался, как лихо все закончится на этот раз.
Наступил черед поздравлений. Представитель мэрии Блатска, до шаровидности разожравшийся на ежедневных торжествах, огласил приветствие от мэра. Никакого мэра в Блатске давно не было, хотя некоторые блатные и верили в него, как в Деда Мороза, и даже держали в офисах его портрет — у каждого свой, потому что единого идеала государственного деятеля в их головах не складывалось. На всех портретах он был дорого одет и украшен галстуком с брильянтовой булавкой. У одних это был строгий, подтянутый бритоголовый Виторган с волчьими глазами, у других — Джигарханян с волчьей улыбкой, у третьих — нервический Смокнутовский с дряблым ртом и волчьими ушами, но все сходились на том, что мэр Блатска — абсолютный вождь преступного мира, король королей, прошедший все тюрьмы обоих полушарий. От его имени на каждое новогодье направлялась малява к временно заключенным, неизменно начинавшаяся гордым, заграничным словом «Арестанты!» — никаких других обращений преступный мир не признавал. На арестантов регулярно собирали деньги, которые тут же и прожирались счастливцем, которому общак достался по жеребьевке, поскольку подогревать лохов, попавшихся в лапы ментам по своей вине, дураков не было. Взаимопомощь в блатном мире была таким же мифом, как мэр. Пресс-секретарь мэра зачитал письмо, в котором особо отметил заслуги Марика перед городом: на его деньги была замощен Комсомольский проспект, названный в честь испытанной кузницы кадров. Чего-чего, а чувства благодарности у блатных было не отнять.
Приветствий было много: Марика поздравлял не только мэр Блатска, но и несколько ребят из Москвы, занимавших серьезные посты. Отдельный адрес прислал фольклорный ансамбль «Березка»: интернационалист Марик любил его солисток, одну из которых прислали ему в пользование вместе с адресом. Фольклорную дивчину усадили за стол и поднесли чарку, чтобы открыть чакру. Глума сменил на эстраде специальный поющий мальчик — желтый мальчик, гадкий, гладкий и сладкий; вздрыгивая попой, он запел про черные глаза. Такой мальчик запросто мог прикинуться нищим, а потом выхватить заточку и прирезать подающего; мог плакать, вспоминая о разлученной с ним сестренке и умалчивая, что сестренку он изнасиловал и загрыз как нежелательную свидетельницу; такой мальчик отличался ангельской внешностью и неотделимым от нее патологическим зверством. Он пел про то, как любит черные глаза, как хочет черные глаза, а жестокая не подпускает его к своим, сука, черным глазам; такой мальчик мог аккуратно, почти без крови выцарапать черные глаза, если бы их обладательница ему наскучила, и сожрать их, потому что именно черные, как и соответствующая икра, считаются у таких мальчиков изысканным лакомством. Сладкий и гладкий был в одной набедренной повязке. Марик нехорошо подмигивал ему. Мальчик подмигивал ему в ответ, как Саломея.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







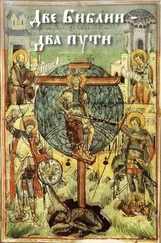


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

