У Цили Целенькой, против ожидания, Громов и Воронов оказались желанными гостями и попали на внезапную халяву: здесь праздновал свой юбилей Марик Харьковский, видный спонсор хазарской Миссии, давно уже увлекавшийся этой игрой в солдатики. В Блатске почти все кого-нибудь спонсировали — вкладывать деньги в войну было гораздо интересней, чем в гладиаторские бои (васьки все равно дрались посредственно), и уж наверняка увлекательней, чем в говенную благотворительность. В первые два года войны все вообще было очень интересно — это теперь настало нудное затишье, а поначалу тотализатор был одним из главных блатских развлечений. Сейчас Марик отмечал сорокалетие первой ходки: он с приятелями взял ларек и сдал всех приятелей. Потом он повторял этот фокус еще трижды и был коронован именно за легкость сдачи, весьма ценимую в блатных кругах. После коронации он уже не работал по ларькам — все больше по недвижимости. Его подручные покупали у алкоголиков московские квартиры, увозили этих алкоголиков под Москву и там быстро спаивали клофелином до смерти или до полного безумия, а московские квартиры продавали. Марик имел от московского правительства почетный значок «Санитар» и очень им гордился.
Когда Громов и Воронов зашли в ресторан, торжество уже было в разгаре.
— Солдатики!— закричал краснорожий Марик.— Ведите солдатиков! Где служишь, братка?
— Сто двадцать пятая артиллерийская бригада,— ответил Воронов. Громов молчал, предоставив рядовому выпутываться самостоятельно. Сам попросил жрать, в конце концов.
— Уважаю!— кричал Марик.— Иди сюда, сладкий, иди, зая! Угостить солдатиков. Федеральчики мои! Я не на вас ставлю, я старая хазарская рожа, да, но в Блатске, вы знаете, нету этого,— он помахал в воздухе короткопалыми ручками, изображая войну.— Нет этого бардака, все равны. Идите, покушайте, солдат вору — брат! Оба жизнью рискуем, оба баб любим, иди, зая! Клавонька, солнце, обслужи солдатиков. Отощали на перловке, да? Плохо вас Руслик кормит. Я говорил ему: Руслик, сладкий, нельзя так кормить солдата! Шо ты жалеешь на хавчик, шо ты жидишься, как ЖД! Шо ты вкладываешь усе в вооружение? Ведь голодная армия не навоюет много, зая! Надо кормить солдатика, надо хлебушка, маслица… Дети должны кушать, ты понимаешь, Руслик? Нет, Руслик не понимает. Старый ЖД Марик понимает, поэтому у ЖД есть кушать. Принесите им все, и водочки принесите! Ша! Пусть теперь будет музыка!
На эстраде проникновенно запели песню «Букет сирэни». Пел ее шансонье Глум, со сломанным носом, придававшим каждой выпеваемой ноте неповторимую гнусавость. В голосе Глума отвратительней всего было сочетание разнузданности с жалобностью, то есть варяжских интонаций — с хазарскими: он как бы все время жаловался и этим пугал. То же сочетание легко было заметить и в его песнях: блатной там всегда был несчастной жертвой, готовой, однако, уничтожить любого в случае чего при первом косом взгляде. В песне рассказывалось о том, как лирический герой Глума, молодой, но уже безжалостный воренок, украл с кладбища букет сирэни и принес возлюбленной, но возлюбленная, сука, как раз в это время отдавалась его соседу, отвратительному фраеру,— и первый ее букет стал последним: воренок пописАл обоих, рыдая и, видимо, кончая, потому что какой же вор не кончает при виде крови?— а на трупы положил букет сирэни, потому что кладбищенский цвэток найдет дорогу к трупу. Убитую возлюбленную Глум называл «девочкой» и рыдал по ходу исполнения весьма натурально. Покончив с букетом, он взялся за следующую балладу — то был своеобразный гимн верным воровским подругам. Герой этой баллады все время жаловался на то, что у него напряжены нэрвы,— оно понятно при такой-то жизни,— но верная подруга, кроткая, как дерево, мягкая, как пух, снимала с него напряжение. Почему-то они сидели с ней в тавэрне и пили вино, хотя в настоящих тавернах, во времена их расцвета, никто не знал слова «нэрвы». «Ты кисанька пушистая моя!» — стонал Глум в припеве. Кордебалет кисанек в страусовых перьях выделывал у него за спиной неслыханные антраша.
— Ша!— воскликнул Глум после этой песни.— Марик, я пою для тебя, и я счастлив, что пою для тебя. Ты человек, Марик, ты из тех людей, про которых никто не скажет, что они несправедливы. Никто из людей, собравшихся здесь,— Глум широким жестом обвел кордебалет,— не скажет, шо ты бываешь несправедливый. Ты мужчина, Марик, и держишь слово. Но я хочу выпить за тех, Марик, без кого и самый настоящий мужчина не может прийти в этот грубый мир. Я хочу выпить за родителей, Марик, и особенно за маму!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу







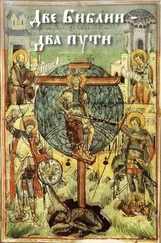


![Андрей Уланов - Космобиолухи (Авторская редакция 2020 года, с иллюстрациями) [litres]](/books/396545/andrej-ulanov-kosmobioluhi-avtorskaya-redakciya-202-thumb.webp)

