– Они вам идут, – заметил Отец, указывая на длинные красные перчатки.
Юная Невеста поправила складку на платье.
– Это не мои, – сказала.
– Жаль. Ну что, пошли?
Они снова устроились в поезде, опять одни в целом вагоне, друг против друга, в свете долгого заката, и если сейчас я мысленно вернусь к этому, смогу вспомнить в подробностях, несмотря на все прошедшие годы, с каким намерением я держала себя горделиво, сидела выпрямившись, даже не опираясь о спинку, хотя и боролась с неподъемной усталостью. То была гордость, но особого рода, такую порождает кровь только в юности, по ошибке сопрягая ее со слабостью. Толчки вагона мне не давали заснуть, а еще подозрение, не пролилось ли бесповоротное бесчестье, целиком и полностью за один день, в сосуд моей жизни, будто в чашку, из которой сейчас ничего не выплеснуть, разве только наклонить немного и наблюдать, как липнут к ее краям мутные подтеки стыда – я ощущала, как медленно он струится, и не знала, что думать. Если бы я могла мыслить ясно, если бы тысяча жизней ждала меня впереди, я бы, напротив, поняла, что этот странный день, исповедальный и несуразный, нес в себе урок, чтобы усвоить его, мне понадобились годы, полные заблуждений. Все подробности этого дня, все, что я делала в эти часы – слышала, говорила, видела, – учило тому, что жизнь определяется телом, остальное – следствие. Тогда я не могла в это поверить, потому что, как и все в юности, ожидала чего-то более сложного или вычурного. Но теперь я не знаю ни одной истории, моей ли, чужой, начало которой не положили бы животные движения тела – наклон, ранение, перекос, иногда блистательный жест, зачастую похабные инстинкты, пришедшие издалека. Все уже записано в них. Мысли приходят позднее, это всегда устаревшая карта, которой мы приписываем, по привычке и от усталости, кое-какую точность. Возможно, именно это Отец задумал объяснить мне жестом, по видимости, абсурдным: отвести молоденькую девушку в бордель. По прошествии лет я готова признать всю смелость, с какой он попал прямо в точку. Он хотел привести меня в место, где невозможно защититься от истины – ее неизбежно выслушаешь, деваться некуда. Он должен был сказать мне, что ткани судеб, вытканные на стане наших семейств, сплетены из нитей примитивных, животных. И что, как бы ни трудились мы, подыскивая другие объяснения, более изящные или искусственные, начало каждого из нас запечатлено в теле, означено огненными буквами – будь то неисправность сердца, мятеж бесстыдной красоты или грубая неодолимость желания. Так мы и живем в пустой надежде исправить то, что нарушило движение тела, жест постыдный или блистательный. С последним блистательным, или постыдным, жестом, движением тела, мы умираем. Все остальное – бесполезный балет, оставшийся в памяти благодаря чудесным танцовщикам. Но я это знаю сейчас, а тогда не знала – в том поезде я ехала слишком усталой, чтобы это усвоить, или гордой, или напуганной, как знать. Сидела, выпрямив спину, больше ничего. Глядела на Отца: он вернулся в свой прежний образ человека благодушного, незаметного – сидел, сцепив руки на животе и на них уставившись. Иногда, на короткое время, взглядывал в окно. Потом опять пристально глядел на свои руки. Тот еще вид. Юная Невеста вдруг поняла, что находит этого мужчину неотразимым, просто сопоставляя то, что она о нем узнала, со старообразной фигурой, которая маячила у нее перед глазами. Впервые обнаружила поразительную ловкость, с которой Отец скрывал свою силу; иллюзии, на которые был способен, и непомерные амбиции, которым посвятил всю жизнь. Профессиональный игрок, тасующий невидимые карты. Фантастический шулер. Я узрела в нем красоту, о которой до этого дня даже не догадывалась, пусть на короткий миг. Ему нравилось одиночество в движущемся поезде и то, что они остались вдвоем на целый день. Ей было восемнадцать лет, она встала, уселась рядом с ним, а когда поняла, что он так и не оторвет взгляда от своих рук, положила голову ему на плечо и задремала.
Отец воспринял это как обобщающий жест, итог всего, что Юной Невесте удалось продумать по поводу открытий нынешнего дня. Этот жест даже показался ему неожиданно верным. Так что он позволил ей спать, а сам вернулся к тому, что делал раньше, стал смотреть на свои руки. Он перебрал в уме все ходы, сделанные в этот день, испытывая сложное удовлетворение генерала, который, изменив диспозицию войск на поле битвы, добился построения, более приспособленного к местности и менее уязвимого для замыслов врага. Оставалось, конечно, отладить некоторые детали, прежде всего нужно было найти Сына, который исчез, но итог этого дня больших маневров склонял его к оптимизму. Придя к такому выводу, он перестал глядеть на свои руки, уставился в окно и позволил себе предаться умственному ритуалу, к которому давно уже не прибегал за неимением времени: перечислить, одно за другим, все то, в чем он был уверен. Таких вещей у него накопилось порядочно, разного типа. Он их перепутывал, смешивал одну с другой, веселясь, как ребенок. Он оттолкнулся от мысли, которая не вызывала сомнений, что летом советуют употреблять крем для бритья с цитрусовой отдушкой. Потом пришел к убеждению, зревшему на протяжении лет, что кашемира как такового не существует, откуда следовала очевидность того, что не существует и Бога. Когда он увидел, что пора выходить, дело дошло до последнего пункта в списке, того, который был ему более других по сердцу; единственный, в котором он никогда никому не признавался; тот, в котором проявлялись самые героические его черты. Он никогда о нем не думал без того, чтобы произнести вслух:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

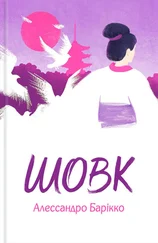

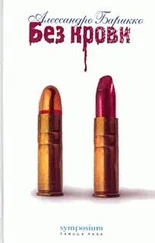

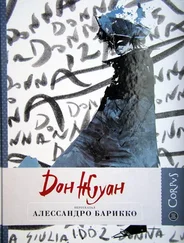

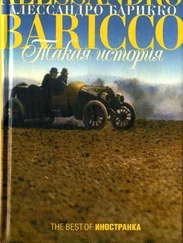

![Алессандро Барикко - Избранные произведения в одном томе [Компиляция, сетевое издание]](/books/423764/alessandro-barikko-izbrannye-proizvedeniya-v-odnom-thumb.webp)

