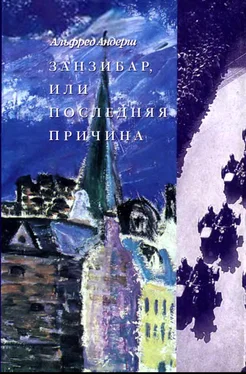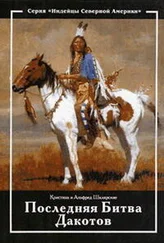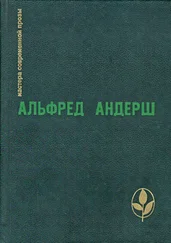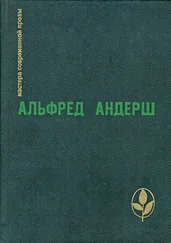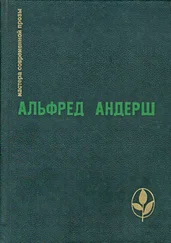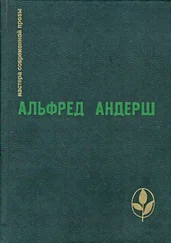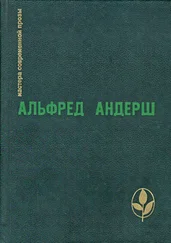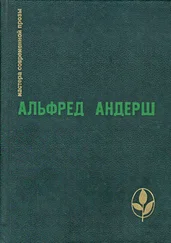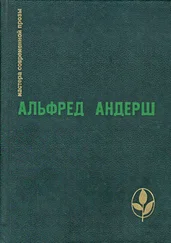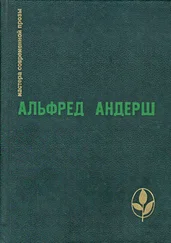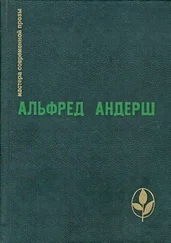Настанет ночь, подумал я, когда я буду один, и мне не придется никого ждать. Абсолютно один. Одинокий и свободный. Недосягаемый для закона и приказа. Затерявшийся в ночи и в буйстве свободы. Осторожно пробирающийся в траве, под деревьями и скалами. Играющий в индейцев. Облака над головой. Голоса вдали. Затаюсь, прислушиваясь. Прошли. Неспешной, ленивой походкой. Цветы. Сон под открытым небом на склоне поросшего дроком холма. Ручеек. Немой взгляд одинокого зверя. Ночь, день, еще ночь. Кто знает? Ночи и дни свободы между пленом и пленом.
Это звучало романтично, но казалось совершенно ясным и простым делом. Я должен был уйти. По-настоящему я впервые понял это, когда лежал на пустыре в Ютландии, где-то под Раннерсом, спрятавшись в зарослях вереска и рассматривая самоходные орудия, двигавшиеся в нашу сторону, во время дивизионных учений в марте 1944 года. Это было потрясающее, великолепное чувство — лежать и думать об этом. Дания была хорошая страна для таких решений; я сидел в кафе в Аальборге и слушал, как на улице стучит но асфальту дождь, или стоял на посту во время учений и смотрел на озеро, лежавшее меж молчаливых пустынных склонов, как спящая корова, и ко мне приходила свобода в образе юной блондинки или парящего в воздухе ястреба. Впрочем, ей и не обязательно было принимать чей-то облик — там, в Дании, свобода была, просто была.
Вспомнил я и осенний вечер три года назад, в 1941-м, когда ехал в военном эшелоне по Тюрингии и у меня вдруг возникла мысль уйти. Я сидел на корточках в дверях вагона для перевозки скота и рассматривал большие, крытые красной черепицей крестьянские хутора, мимо которых в вечернем свете проносился наш состав. Вылезти, подумал я, и пойти туда, снять комнату на одном из этих хуторов или в деревенской гостиницей остаться там неизвестным чужаком, поселившимся среди чужих. Безымянным. В военной форме это было, конечно, невозможно. Да и вообще это книжная идея. Неосуществимая. В одиноких бухтах английского побережья были пристанища, куда прибывали чужаки, меняли невиданные монеты и называли себя примерно так: «Старый пират», «Слепой», «Черный нес». Времена и страны, в которых можно было жить, не называя своего имени. В Тюрингии и в 1941-м это было абсолютно исключено. Уже оголившиеся деревья, еще пестрые деревья, проносившиеся мимо поезда, осень, Тюрингия; вскоре эта мысль покинула меня.
Но в Дании она возникла вновь — шепчущая тень, которую я покрывал своим телом, лежа в засаде среди вересковых зарослей и глядя на приближающиеся танки. И когда я подбирал гальку на берегу у Гобро и швырял в Мариагер-фьорд, камешки, скользя над водой, высвистывали мне, прежде чем погрузиться в пучину, слова «Дезертирство» и «Свобода».
Но ночью в долине Арно эта мысль даже не нуждалась в словесном выражении. Она молчала. Она воплотилась в ночь, в мост, в трубку. Вещи не говорят. Вещи существуют.
Это было совершенно ясное и простое дело.
Я услышал их еще издалека — голоса, смех, чье-то восклицание, железный скрежет оружия и стук колес. Фельдфебель, ехавший во главе эскадрона, крикнул мне:
— Ну, что там? Долго еще будет продолжаться это дерьмо?
Эскадрон, двигавшийся позади, остановился. Фельдфебель был пьян, унтер-офицер, ехавший рядом с ним, был пьян, отделение связи, в которое я входил, было трезвым.
— Еще пятьдесят километров, оберфельд, — сказал я. — Сейчас выедем на Лурелиа…
— Проклятье, — заорал он. — Еще полсотни километров. На какую такую Розалию мы выедем?
— На прибрежную дорогу. Эскадрон расположится в пятистах метрах от населенного пункта под названием Рави. Мостов нет, есть объезды, покажет военная полиция. Все мосты полетели к черту.
— Ладно, — сказал он, вдруг протрезвев. — А авиации у нас уже нет? — Он подал знак продолжать путь. — Возьмите свой самокат с грузовика и поезжайте вперед!
Последовал приказ «принять меры с целью облегчения марша», и все поснимали каски, расстегнули кители и закатали рукава. Когда они проезжали мимо меня, я мог различать их лица, их волосы. При ночном освещении волосы у всех казались темными, а лица одинаково светлыми, и только у белокурых волосы отсвечивали в лунном свете серебром. Они ехали равномерно, но иногда кому-то, вырвавшемуся вперед, приходилось тормозить. Лица их казались застывшими, взгляды были устремлены в одну сторону, по усталость еще не была заметна. Командиры взводов и унтер-офицеры были пьяны, они ехали неровно, но быстро, петляя от одной стороны дороги к другой; ямы они все же умудрялись объезжать. Солдаты держали равномерную дистанцию между собой и пьяными, так что колонна нигде не обрывалась.
Читать дальше