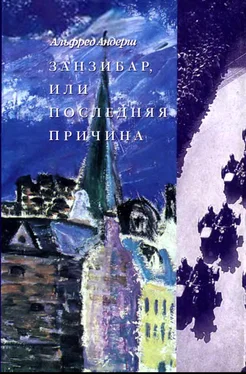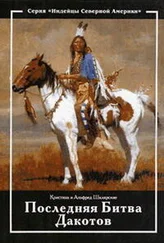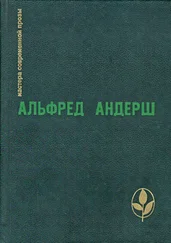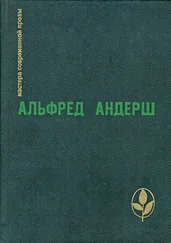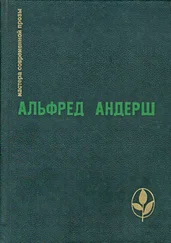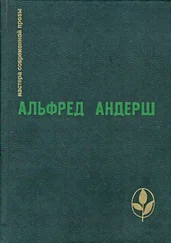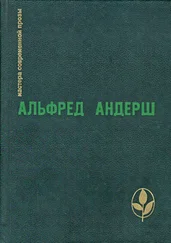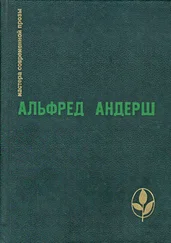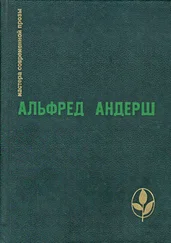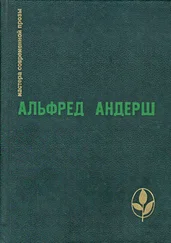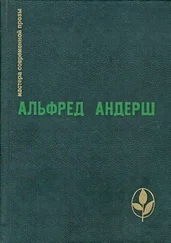Это было, по Кьеркегору, эстетическое существование, по марксистским понятиям — возврат к мелкобуржуазному образу жизни, с точки зрения психоанализа — болезнь как результат травматического шока, который вызвало у меня фашистское государство. Объяснения, даваемые задним числом, никогда не бывают основательными. Впрочем, я фиксирую процесс погружения в себя только для ученых, изучающих современную диктатуру как социологический объект. Некоторые из них путают ее с деспотиями старого образца, например с царизмом. При этом они упускают из виду роль техники. Технически всеобъемлюще организованная структура из террора и пропаганды, плановый аппарат нового типа, не могут быть побеждены оружием религиозного, гуманистического или социалистического сопротивления старого толка. Человек, изготовляющий в подполье листовки или бросающий бомбу, — трогательная фигура из XIX столетия по сравнению с гестапо или рейхсминистерством народного просвещения и пропаганды. На самом деле выхолащивание системы происходит по вине техники, которую та создает: все больше колесиков выпадает или крутится вхолостую. Рассчитывая на массы, то есть на функционирующие с большей или меньшей квотой потерь рабочие единицы, диктатор или действующее по принципам диктатуры управление приводит в движение процесс атомного распада масс. Мощный, никем не направляемый и молчаливый саботаж — вот ответ, который дает работающий у машины или склонившийся над чертежами, подвергающийся износу человек на тотальный призыв. Так Германия в последние годы диктатуры напоминала копёр с вращающимися вхолостую колесами, не способный приводить в действие передачи, посредством которых диктатор хотел управлять историей.
Какая неудобоваримая смесь чувств, идей, мнений! Застоявшийся неподвижный воздух над постепенно скукоживающейся душой. В моем случае — история искусства вместо искусства, опыты с каллиграфическими построениями за письменным столом, чтение Рильке, созерцание голубовато мерцающих в отраженном свете фасадов Мюнхена или Рима. Мир казался мне пейзажем, убегающим вдаль за зеленью какого-нибудь парка, с неотчетливыми контурами из-за своеобразно рассеянного света; иллюзии фланера — от Променадеплац до Пьяцца-Навона, от Азамскирхе до Сан-Миниато-аль-Монте. Но время от времени — поистине великие мгновения: магическая белизна стен церкви Санта-Мария-ин-Козмедин, вид на горы Умбрии с холма, на котором лежит Орвието. Музыкальные моменты: с лакированной черноты вращающегося диска, исписанного звуками, срывались жемчужные синкопы двух роялей, первое предчувствие джаза. Я знакомился с содержимым книжных полок в букинистических магазинах, отыскивал среди них импрессионистов; но, сидя у маленького старого господина Фрицля, который всегда рассказывал мне о своих снах наяву и демонстрировал свою библиотеку романтиков, я хватался не за Э.Т.А. Гофмана, не за «Золотой горшок», в котором варилось питательное блюдо, а за лирические шоколадки. И все-таки я уже нащупал след искусства, понимал его, сидя в зрительном зале «Каммершпиле» на «Цимбелине» в постановке Фалькенберга, волшебника, извлекавшего из колодцев фантазии поэтически сгущенный мир; и когда я видел на сцене лежащих влюбленных и слушал, как они разговаривают, словно во сне, все во мне сливалось в глубокое, исполненное страха чувство жизни. И еще сегодня, сидя в театре, в секунды, предшествующие поднятию занавеса, я думаю о том, что когда-то должен буду умереть.
Это я копирую свой тогдашний стиль. Правда, бывали и инъекции противоядия. Кто-то привел меня к д-ру Херцфельду, высокому, астенического сложения черноволосому человеку с орлиным носом и поблескивающими стеклами очков. Иногда, вечерами, я слушал у него в узком кругу Шекспира. Суверенный почитатель перевода Шлегеля и Тика, отчаянный ненавистник Гёте, он как раз читал вслух и интерпретировал «Антония и Клеопатру», очень лаконично, выделяя лишь некоторые элементы формы этого произведения, раскаленного, словно шкура тропического животного. У д-ра Херцфельда я впервые ощутил напряженность искусства, то, что наполняло меня беспокойством и вызывало чувства, в которых смешивались нетерпение и отвращение. Сплин. Херцфельд был исконным воплощением духа немецкого романтизма, наполовину ближневосточный еврей, наполовину прусский гвардейский офицер, в качестве какового он участвовал в Первой мировой войне. Что угодно, только не представитель богемы, он был немецким художником. Рядом с Шекспиром для него располагался Клейст. Принц Гомбургский был его храбрым кузеном. Он сам писал сказки, во все новых, все более скупых вариантах, беспощадно очищенных от «настроения», так что фигуры становились все более зримыми, четко прорисованными, они пластично проецировались в самую глубину его сюжетов. Шедевры. Куда они канули?
Читать дальше